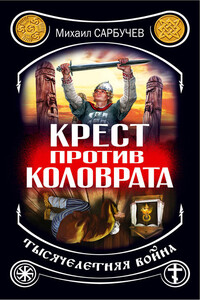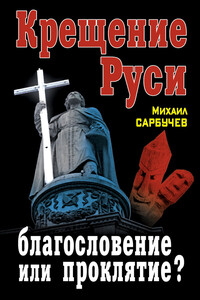Никакого Рюрика не было?! Удар Сокола | страница 53
Отбросим Абубякяровых, Абумайловых, Астрединовых, Ахметовых – которые включены в «исследование» и тоже «посчитаны» (чтобы в итоге получилась красивая цифра 500) – как фамилии, не имеющие серьезных оснований считаться частотными в русском языке, и обратимся к более привычным для русского уха Булгаковым, Балашовым, Давыдовым и пр.
«Тюркологи» смело выводят фамилию автора «Мастера и Маргариты» от тюрко-татарского «булгак» – «гордый человек»48. Разумеется, «тюрки» другими быть не могут – это русские – «лапотники» и «быдло». Но обратимся к Толковому словарю В. И. Даля. Может, он предложит более очевидные трактовки? Действительно. Живой великорусский язык, оказывается, содержит слово «БУЛГА», причем в современной России оно встречается как диалектное на огромном пространстве – от Белого до Черного моря. Важно, что это именно диалектизм, то есть слово исконное и очень древнее – его не могли «привнести» завоеватели. Итак, читаем: «Булга – сущ. ж. р., симб. склока, тревога, суета, беспокойство». От него образуется глагол «булгатить/булгачить», который также отмечен в «твер., пенз., влад. губ. (тревожить, беспокоить, будоражить, полошить, баламутить). Что ты, по-пустому, народ булгачишь? Пожар всех взбулгачил. Набулгачил, да и был таков. Булгачить или булдачить». Таким образом, «Булгак» происходит от глагола «булгачить» – хулиган, баламут. В Нижегородской губернии это слово имело значение «занимающийся промыслом живодеров, выменивая шкурки на мелочи, на щепетильный товар». Синонимы – маклачить (ср. фамилию Маклаков), маячить. Имелся и глагол «буглачиться» – «суетиться, метаться, тревожиться, суматошиться»49.
Может ли такое слово послужить основой для прозвища? Безусловно. Почему же столь разветвленная и укорененная в русском языке этимология напрочь отметается «тюркологами»? Почему бы не воспользоваться бритвой Оккама и не отсечь менее вероятное решение в пользу более вероятного? Потому что оно противоречит основной идее исследования – доказать, что вся русская элита, а стало быть, и государственные традиции имеют нерусское происхождение. Ради этого «тюркологи» даже идут на откровенный подлог. Так, например, берется некий Никифор Иванович Булгаков (упоминается при Иване Грозном), участвовавший как есаул в Казанском походе 1544 года, а затем – как воевода (завидная карьера!) в шведском походе 1549 года. Вообще, если человек участвовал в походе на Казань, то его «тюркские» корни представляются весьма сомнительными. Но тут неважно, сам Никифор Иванович украл пальто или у него украли; главное – дана четкая связка «татары – Булгаков». А кто там кого воевал – дело темное. В литературе встречается и Петр Андреевич Булгаков, тоже участник Казанского похода, но уже 1552 года. А вот дальше следует замечательная фраза, кочующая из источника в источник: «…служил в войске, предводимом бывшим царем казанским Шиг-Алеем». Все очевидно: раз войском командовал «татарин», то, конечно же, и подчиненный тоже «татарин». Но возникает маленькая неувязочка.