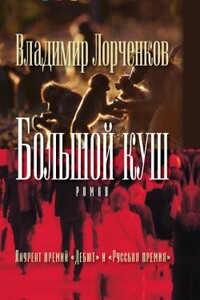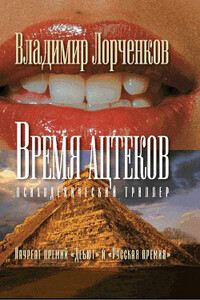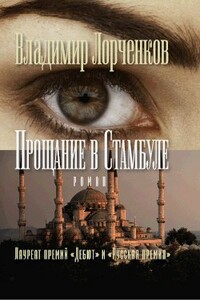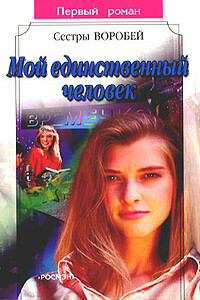Свингующие пары | страница 125
Если бы в пизде Анна-Марии было дно, я бы вышиб его, как у бочки.
Но ее нора предусмотрительно была изрешечена потайными выходами, и моя сперма сочилась во все клетки тела Анны-Марии, и, клянусь, от слюны в уголках ее губ отдавало моей спермой. Я со стоном отвалился, и уселся прямо на пол, опершись о диван спиной. Передо мной маячила ее пятка, а нога лежала у меня на плече. Мы ничего не говорили. Она глубоко дышала. Я похлопал ее по ляжке, приводя в чувство. Тогда Анна-Мария взвизгнула, и вскочила. Побежала в ванную, – она пряталась за шкафом-купе, и только тогда я понял, как обманчива эта комната на первый взгляд… совсем как весь дом… совсем как хозяева… – и пропала там минут на десять. Вышла с тюрбаном на голове. Тогда-то она и стала похожа по-настоящему на восточную женщину. Думаю, это все индийское полотенце. Я все еще сидел на полу, и глядел оттуда на ее волосню в паху. Это возбудило меня. Но оказалось, трахаться снова рано – она пошла искать какую-то чудо-таблетку, которая бы не позволила ей залететь. А потом снова вернулась в ванную. Я крысой шмыгнул к столу с вещами и бумагами. Что-то подсказывало мне… и так оно и оказалось.
Диего писал сестричке письма.
***
…здравствуй, сладкая, можешь ли ты представить тот день, можешь ли ты представить тот час, когда крылья совы – помнишь, из дерева, она стояла на полке в нашей кухне до переезда – сомкнутся над нашими головами, и дадут нам постель, и дадут нам альков, и дадут нам кров. Кров и кровь, любовь и кровь, кровь и морковь. Там где любовь, там всегда кровь, говорил он нам, помнишь? И это даже не звучало пошло: все, к чему прикасались губы этого старика, превращалось в ужас. Помнишь? Я не верю в то, что ты забыла, не верю, что следы твоей памяти занесло песком, просыпанным из матрацев, на которых резвились тысяча и один человек, тысяча и одна ночь. Если бы я был лебедем, сладкая, я бы спел для тебя последнюю песню.
Я бы трахнул тебя, будь я даже птица, моя Леда.
Как хорошо и как горько – знать, что в этом ноябрьском небе страны, ставшей нам мачехой, мы с тобой никогда не полюбим больше.
Это как ехать, ехать, смотреть на верстовые столбы, – ими истыкали все дорожное полотно эти ужасные бородатые русские рабочие, в свободное от распития водки и работы время громившие наших предков в этой убогой Бессарабии, – и думать, что все, когда-нибудь, изменится. Станет не таким, как в пути. Ты приноравливаешься к дороге. Учишься ходить на расставленных широко ногах, чтобы не упасть из-за качки вагона. Ты привыкаешь жить в пути. И хотя ты едешь куда-то, но постепенно начинаешь жить тем, что происходит сейчас.