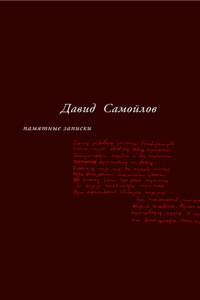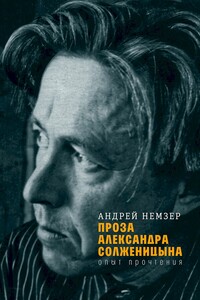При свете Жуковского | страница 105
А когда занавес падает, предчувствие становится явью, смерть приходит без кавычек, констатирует:
И просит:
И помнит, как тридцать лет назад шептал другое:
Не «примирительный елей», а отчаянные попытки «заговорить» боль и ужас, раствориться в невозможных, отчаянных, не сулящих оправдания, но неодолимо рвущихся на волю словах. Которыми все равно ничего не выразишь.
Мужества хватило. Теперь у нас есть «эта книжка небольшая», что воистину «томов премногих тяжелей».
2003
Неугомонные думы
Алексей Степанович Хомяков (1804–1860)
Большинство современников, вспоминая Алексея Степановича Хомякова, рисуют отца-основателя славянофильства человеком ярким, энергичным и на удивление многосторонним. Вослед мемуаристам движутся исследователи. Редкая статья о Хомякове (включая те, где советские литературоведы выставляли реакционному литератору «выверенные» оценки) обходится без указаний на широту его интересов. Хомяков недурно хозяйствовал, был отличным наездником и охотником, изобретал машины и усовершенствовал ружья, лечил крестьян, не говоря уж о главных сферах приложения его сил – истории, публицистике, философии, богословии, поэзии. Как правило, упоминалось (спасибо Герцену!) и человеческое обаяние, сквозившее в тех блестящих салонных диспутах, где бретер диалектики не знал себе равных. Хомяков как «эстетический феномен» вызывал восхищение не только у достойных идейных противников (высоко ценивших его интеллектуальную честность и личное человеческое благородство), но даже у казенных советских гуманитариев, не способных (да и не желающих) сколько-нибудь адекватно осмыслить мысль и судьбу рыцаря веры.
Привлекательный антураж застил глаза не им одним – слишком уж колоритен и импозантен был наш «тысячеискусник». Потому, наверно, анекдоты (обычно достоверные, но, прежде всего, эстетически выразительные, броские) о бороде и мурмолке, изобретении не слишком удачной машины, пламенной любви к Англии (ибо англичане – это «угличане»), острых словечках и дружеских розыгрышах так легко сочетаются с ехидными укоризнами. В стихах многовато внешнего блеска, риторики и идейной «заданности» (в последнем сознавался сам Хомяков), публицистика насквозь тенденциозна, в суждениях о современном искусстве не хватает широты и вкуса (действительно, хомяковские печали об отсутствии «русской художественной школы» – это после Пушкина! – отдают зашоренным доктринерством), в исторических построениях фантастическая (увы, во всех смыслах) эрудиция подчиняется концептуальной монотонии…