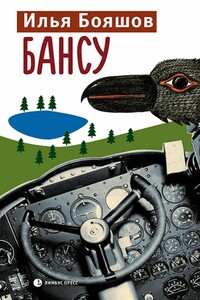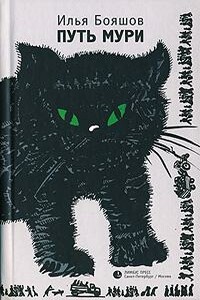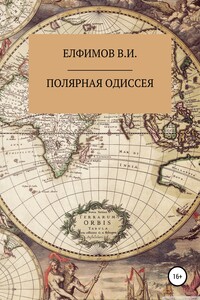Эдем | страница 22
Я ведь пал окончательно. Ниже самого завалящего, задумчиво ковыряющего в носу при виде явного барыша, сотрудника танзанийской таможни. Подобно уработавшейся в доску, до полного одеревенения, до ступора, неласковой брюссельской шлюхе, ублажаю деревья. Предлагаю интим вконец обнаглевшим созданиям. («Надо бы их опылить, сынок».) И тонкостебельная гиана опылена – чем не гнусная мерзкая случка?! Финиковые пальмы? Въелся в печенку маршрут от молодого кобеля возле запахнувшихся навечно ворот, до его потрепанных старых подружек, чуть ли не к самому пруду наклонивших свои проредевшие юбки. В усердном поту, задыхаясь от едкой, гнездящейся в пальмах тысячелетней пыли, карабкаюсь с мужским соцветием по мохнатым женским стволам – чтобы, с невольным стоном (пару раз все-таки прелестно сорвался!) дотянувшись до их сокровенного лона, обеспечить поношенным самкам оргазм.
И опять-таки – клещи, полуденные слепни, вечерне-ночной королевский гнус, да и все остальное – злобное, крылатое, кровососущее до изумления.
Муравьи, бессчетное количество раз устраивающие коллективные праздники на моем и без того зудящем, обрубцованном теле, в то время когда без всяких сил и дум, облепленный этими лилипутами Гулливер, валится под лох серебристый.
Сон – поистине мертвецкий.
Доставучее, словно реклама батончика «Натс», безумное здешнее ярило.
И – рядом, все эти дикие годы – воплощение вечности: проклятый, несносный сторож. Придаток все тех же рокариев. Евнух, трясущийся над изнеженной перепончатой гольдо-кабаной. Механизм для бесконечной прополки! Взгляд воблы, дрожание членов, тихие вздохи, бормотание удивительных банальностей («Без труда не вытащишь и рыбку из пруда…» и т. д.). Бирмингемский пакистанец-таксист рядом с ним – воплощение царя Соломона.
«Кхе, кхе, кхе…»
Сопит и правит косу.
Издевательски-менторский бубнеж за согбенной моею спиной: «Рай обязан сверкать, сынок. Он должен быть полон цветов…»
Рай был полон.
А я – разбит вдребезги. Расколот. Рассыпан, словно кубики «лего», которые вытряхнул перед собой пятилетний конструктор, прежде чем затеять очередную торопливую сборку. У какого-то сверхунылого writer-японца[16] (впрочем, отыскать оптимиста-писателя в том солнцевосходящем краю у вас столько же шансов, сколько побеседовать с единорогом) персонаж-страдалец ежедневно тонул в песках – и ежедневно откапывался, лишь бы выжить. Я здесь, по уши в черноземе, так же страстно воюю с наступающей мокрицей. Запеленованный паутиной эдема, весь в поту и компосте, я ослеп ко всему остальному – сколько лет кануло в прошлое (служение, словно сиракузским серебряным рудникам, сияющему парадизу, борьба и с тлей, и с медведками), прежде чем отчаяние убралось со своего нагретого места, и царственно водрузилось там воспетое земским врачом-мизантропом Антошей Чехонте