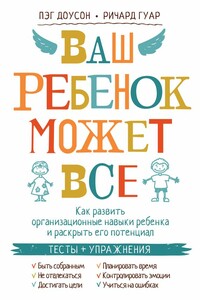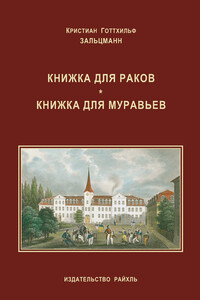Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху. Педагогика нового времени | страница 89
– Что такое современная молодежь?
– С точки зрения какого заказчика оценивать эффективность работы с нею?
– Что такое молодежная программа? Как мыслится ее концепция? Да и что такое российское общество? Готово ли оно сформировать заказ на развитие своего главного ресурса – молодых людей?
Политологи всех мастей пророчески шепчут: «Кто сумеет поднять молодежь, сумеет овладеть Россией». Нет, не поднимают. Манипулируют, подкупают, оболванивают, но не поднимают! Знаете почему? Потому что до самой молодежи дела никому нет. А та уже давно поняла, что нужна она ровно один раз в четыре года и действительно в качестве ресурса. Только ресурса не развития России, а прихода к власти людей, далеких от ее реальных интересов. Вот и не ходит молодежь на чужие выборы, разве что за смартфоны, интернет-карты и фиксированную зарплату полевого агитатора. Но это уже – честный бартер, а не внутренние убеждения.
Сегодня я с удовольствием констатирую, что начиная с декабря 2011 г. и событий на Болотной площади молодежь не просто пришла в политику, но сумела самоорганизоваться в очень влиятельную общественную силу. Последние выборы мэра Москвы с участием Алексея Навального, за которым пошел молодой избиратель, не просто подтверждают этот уже очевидный вывод, но и позволяют предположить, что в перспективе 10–15 лет нас ждет кардинальная ломка политической системы и избирательного законодательства. Драйверами перемен при этом выступят не специально обученные политтехнологи, а сетевые сообщества образованных, политически активных молодых людей.
Депрофессионализация, отток мозгов и дебилизация
Пытаясь отследить результативность программ «Новой цивилизации», мы регулярно проводили социологические исследования в различных регионах страны, пытаясь в том числе разобраться, чем жили тогда, на излете 1990-х, молодые люди.
Поводов для оптимизма, откровенно говоря, было мало. Тогда, в «лихие девяностые», по оценкам наших мурманских коллег, 85–90 % работавших молодых людей трудились челноками и охранниками. Нет, не было ничего плохого в том, что юноши и девушки стремились зарабатывать нормальные деньги и не хотели мириться с нищенскими зарплатами, которые предлагали им провинциальные рынки труда. Кто представляет работу челнока изнутри, а не по досужей болтовне о «торгашах», понимает, насколько опасен и тяжел этот каторжный труд. Беда в другом – в депрофессионализации современной молодежи.
Экономическая ситуация в России тех лет толкала молодое племя на стамбульские и шанхайские рынки, не предъявляя к нему серьезных требований в области профессиональной специализации. Но что готовил ему завтрашний день? Могла ли выдержать конкуренцию самая активная часть нашей молодежи на международных рынках труда, понимая конъюнктуру только блошиных рынков?