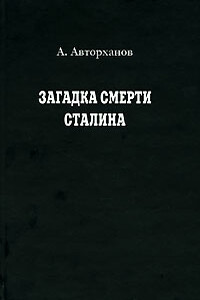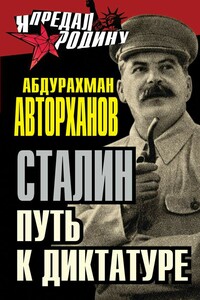Империя Кремля | страница 83
Аналогичные утверждения мы находим и у других советских исследователей (см., например, Ю. В. Бромлей, «Этнос и этнография», М., 1973, стр. 109; И. М. Джаббаров, «Ремесло узбеков…», М., 1971, стр. 34; М. С. Джунусов, «Две тенденции социализма в национальных отношениях», Ташкент, 1975, стр. 46; А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто, Л. В. Черепник, «Пути развития феодализма», М., 1971, стр. 29–30). Суммируя утверждения этих ученых, наш автор приходит к выводу:
«В дореволюционной Средней Азии ислам играл определенную интегрирующую роль в этнических процессах… Ислам был той силой, которая облегчала взаимное существование различных племен, укрепляла их взаимоотношения изнутри, обеспечивала им внутреннюю связь, смягчала и стирала психические различия между племенами, этническими общностями… Ислам способствовал формированию представлений об этнической общности различных племен и родов» (там же, стр. 82–83).
Все это и привело, с одной стороны, к оформлению общего сознания, что есть не отдельные племена, а единый народ, возникший на общей для всех духовной основе — на основе ислама и, с другой стороны, этот общий для всех фундамент — ислам, делает все мусульманские народы родственными, у них может и должна быть и одна общая цель — создание единого государства из всех мусульманских народов (теория панисламизма). Так как мусульманские народы Российской Империи почти все были народами тюркского языка (кроме большинства горцев Кавказа и Таджикистана), то возникла и другая идея — создание единого тюркского государства вместе с единоверной и единокровной Турцией (теория пантюркизма). В великой интегрирующей роли ислама среди разных, часто между собою враждовавших племен, центральное место занимали и его социальные компоненты. Социальной философии ислама органически чужд дух элитаризма, классовости, избранности. Ислам приходил к народам с лозунгом: «В исламе — все люди братья», а потому не должно быть ни рабов, ни рабовладельцев. Поэтому понятно, что первыми мусульманами еще при жизни Магомета стали арабские рабы. В этой связи надо упомянуть и неизвестную в других религиях демократичность внутренней организации мечети ислама. Ислам не знает ни духовно-административной иерархии, ни назначаемых сверху духовных отцов. В исламе нет официального обряда посвящения и рукоположения в духовный сан, поэтому вообще нет института рукоположенного духовенства. Священнослужители мусульманских общин — кази, имамы, муллы выбираются на общих выборах самими верующими, только здесь не участвуют женщины, что предписано не Кораном, а основано на местных традициях (поэтому женщины не посещают мечети, что опять-таки не исходит из Корана). Хоть медресе и готовят духовных отцов, но быть имамом религиозной общины может каждый мусульманин, если он знает основы ислама и способен возглавить молитву в мечети. К тому же среди верующих существует критическое отношение к образованным муллам, если они служат больше земному, чем небесному. Отсюда масса народных поговорок и пословиц по адресу нерадивых мулл: «Денег муллы, совести судьи и глаза крота никто не видел», «Делай то, что говорит мулла, но не делай того, что он делает», «Два муллы — один человек, один мулла — получеловек».