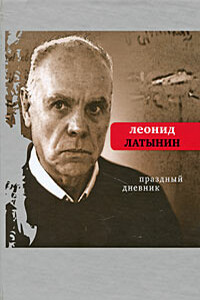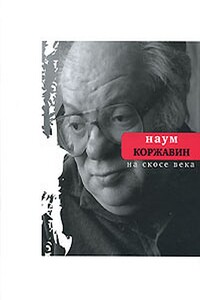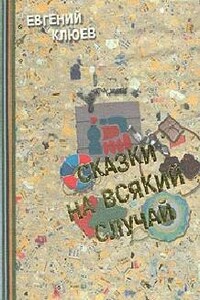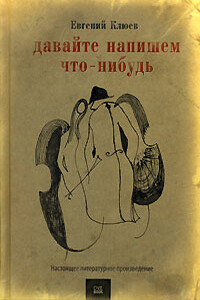Музыка на Титанике | страница 59
– Задыхаюсь от бега.
«Пора поменять имя – наследуя древним японцам…»
Пора поменять имя – наследуя древним японцам,
обычно менявшим имя, меняя форму письма.
Не стать ли мне Румпельштильцхен – или хотя б Рапунцель?
А форма письма, пожалуй, давно поменялась сама:
мои ускакали кони, мои расшатались туры,
и, как две пустых стеклотары, офицеры лежат в пыли…
Ах, оставить бы это поле, но я слишком люблю повторы,
Боже, как я люблю повторы – куда б они ни вели:
эти «дважды в одну реку», эти «трижды в одну лужу»,
когда память кричит криком – и отчаян её глас!
Погоди, я и сам знаю, погоди, я и сам вижу,
погоди, я и сам сдамся, но… эх, раз да ещё раз!
Только волны бы набегали – и за краешек перелили,
и, не зная, что перелили, продолжали плескать во тьму!
Я люблю эти переливы, я люблю эти параллели —
эту тетрадь в линейку, эту тетрадь по письму,
это упорство мэтра, эту честность и тщетность метра,
эту неизбежность утра и его беспощадный свет,
эту сказку про рыбака и рыбку, эту бабу у разбитого корыта,
эту роскошь возврата: туда, куда возврата – нет.
«Неужели я так много написал…»
Неужели я так много написал…
ради Бога, извините – не хотел!
Просто день сперва, а после век летел,
и я как-то не засёк их по часам.
И в начале было слово, а потом
слово зб слово… и дальше как всегда.
А очнулся – предо мною целый том
и подмигивает рыбка из пруда.
Так бывает: заиграешься вконец
праздным камушком, забудешь счёт векам —
и внезапно пред тобой стоит дворец
и ласкается, как пёс, к твоим рукам,
и какая-то уже там жизнь вокруг:
танцы-шманцы, званый-вечер-с-италья…
и дворец твой отбивается от рук —
своевольничая, значит, и шаля.
И тебе не остаётся ничего,
как вздохнуть, опять вздохнуть, махнуть рукой:
дескать, я и сам не рад, что он такой…
да простите уж – живое существо.
А вначале-то – обломок, минерал…
думал, я себе таких хоть сто найду!
Помню, всё сидел на корточках в саду,
помню, всё весёлым камушком играл.
«Ни за беседой, ни за скудною трапйзой…»
Ни за беседой, ни за скудною трапйзой,
ни по дороге в одинокую кровать
румяный критик мой, насмешник толстопузый,
всё не является – меня критиковать.
Раскисли кисти, и давно не мыты кости,
и дремлют бури, и в столе растёт бурьян,
и ряска тонкая дрожит в бокале асти,
и страсть состарилась, и опыт сильно пьян,
и рифмы кончились, и ритм даёт усадку…
но порох есть ещё, ещё не вышел срок!
Спросите хоть кого: хоть Бога, хоть соседку —
она ко мне порой внимательней, чем Бог,
и только кажется надутой и жеманной,
Книги, похожие на Музыка на Титанике