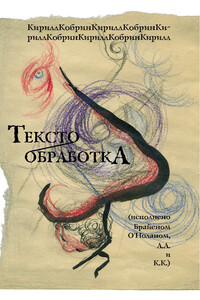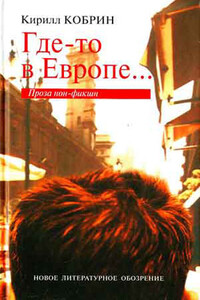Книжный шкаф Кирилла Кобрина | страница 63
Главная причина непереводимости «Finnegan’s Wake» на русский – не в языковых причудливостях Джойса, а в совершенно чуждом для отечественного читателя культурно-историческом опыте. «Кончилась война. Уимум уимум! Была ли то Юнити Мур или Эстелла Свифт или Варина Фей или Кварта Кведами? Тоумас, поставь марку оом на дядюшку! Пигмеи, холд оп мед ваши ногеи. Кто, но кто же (второй раз спрашиваю) был тогда бичем для постыдных частей народного Лукализада, о чем не стоит спрашивать, как через столетия по возникновению Хомо Капите Эректус что за цена у Пибодиевой монеты, или, излагая прямо, откуда взялся Херрингтонов белый галстук…» и так далее и тому подобное в том же волшебно-бессмысленном для русского сознания духе. Кто боится Вирджинию Вулф, блин? Девственную Волчицу кто боится, спрашиваю я? Куда летит филомела-птица, почем на невольничьем рынке продают мастерицу, зачем у Кащея облезли ресницы, летит кобылица, летит кобылица. И мнет ковыль.
Анри Волохонский сочинил прелестную абракадабру, веселую и беззаботную, как во времена до натужных стилизаторских романов, сочиненных издательствами «Захаров» и «Ад маргинем».
Что же до 628-страничной чепуховины (в издании «flamingo», серия «Modern Classic», pocketbook), сочиненной бес-, а не пре-подобным богохульником, кельтофобом и язвенником, то тут нужен, быть может, подстрочный перевод (с бесчисленным количеством вариантов) в духе набоковского издания «Онегина» на аглицком. Да у кого есть столько таланта и свободного времени?
Национализм: Полемика 1909–1917: Сб. ст. / Сост. и примеч. М. А. Колерова. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. 240 с.
Чтение этой поучительной книги наводит на одно неожиданное (для автора этих строк) открытие. Начало прошлого века было эпохой расцвета не только разного рода национализмов и национальных возрождений народов угнетенных, подавленных (вроде ирландского, осмеянного Джойсом, или чешского, редуцированного Гашеком к брюху и заднице), но и наций, так сказать, формообразующих, точнее, империообразующих.
Вот и «русское возрождение» с «русским национализмом» стали важнейшим историческим фактором того времени. Тут сошлись две обычно несовместные крайности – политика властей и настроения части русской интеллигенции; с одной стороны, русификаторство последних двух императоров, с другой – неославянофильство многих делателей серебряного века и умеренный национализм умеренной оппозиции царизму. Ничего неожиданного – начавшийся переход к индустриальной стадии не мог не привести как к осознанию так называемой «национальной идентичности», так и вообще к росту национализма. Индустриальная эпоха превратила Европу династий и империй в Европу национальных государств – об этом можно прочитать у Эрнеста Геллнера, большого специалиста по этим темам.