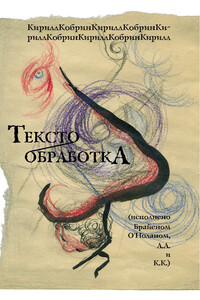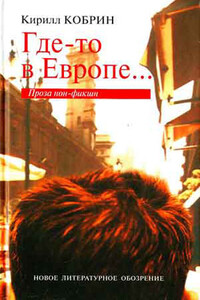Книжный шкаф Кирилла Кобрина | страница 56
Для того чтобы правильно понять эту книгу, надо побывать в Перми. К этому городу можно применить слова, некогда сказанные Николаем I по отношению уже к моему родному Нижнему Новгороду: «Природа сделала все, люди же все испортили». Дикий индустриальный центр в оправе одного из восхитительнейших пейзажей России, город почти без культурно-исторического центра, город с одной из худших в России транспортных сетей. Город, в котором (в отличие от того же Нижнего, да и многих других зрелищно более выигрышных провинциальных центров) культурная жизнь буквально кипит, в котором есть энергия, ощущение совершающейся истории.
Впрочем, и история – в прямом смысле этого слова – в Перми была. И богатейшая. Разворачиванию этой истории в текст, точнее, превращению пермского контекста в пермский текст и посвящена книга Абашева.
Краеведение как наука меня всегда удручало своей принципиальной методологической дикостью, желтой от никотина, взъерошенной бородой записного архивиста, засаленными рукавами его пиджака, кисло-сладким запахом обсыпанного крошкой холостяка. Сочинение Абашева – своего рода альтернативное краеведение, европеец с ноутбуком, обставивший знатоков-автохтонов. Такое краеведение нужно ввести как обязательный предмет в вузах.
Книга состоит из двух частей. Первая («Пермский текст в русской культуре: структура, семантика, эволюция») задает контуры и общие параметры (ширину, глубину, высоту, прочность, материал) пермского историко-культурного мифа. Вторая («Пермский текст русской литературы XX века») демонстрирует важнейшие части этого самого пермского текста. Дочитав до конца, я, кажется, начал догадываться, почему меня всегда бросало в непонятную дрожь, когда в «Детстве Люверс», в самом начале, я читал про огни Мотовилихи: «Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным…».
С. Бернен, P. Бернен. Мифологические и религиозные мотивы в европейской живописи 1270–1700 гг. О том, что знали сами художники. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2000. 300 с.
Борхес был бы без ума от этой книги; при одном, впрочем, условии – если бы не был слеп. Перед нами – столь любезный сердцу автора «Вавилонской библиотеки» жанр – энциклопедия. Главный источник его вдохновения, стилистических особенностей его прозы, даже логики письма. Если бы еще он мог видеть картины, воспроизводящие сюжеты из этой книги!