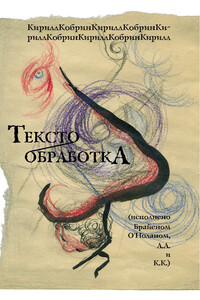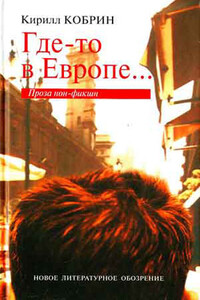Книжный шкаф Кирилла Кобрина | страница 52
Мне почти нравится эта книга.
Окрестности: Сб. четвертый. М.: Автохтон: Содружество «Междуречье», 2000. 220 с.
В четвертом выпуске альманаха «Окрестности» 31 автор. Среди них есть хорошие. Довольно много удачных текстов. Довольно много и неудачных. Превосходный рассказ Николая Байтова «Альтернатива Фредгольма». Хороший рассказ Льва Усыскина «На войне». Плохие стихи Дмитрия Воденникова. Дурацкая проза Данилы Давыдова. Хотя, в сущности, Данила Давыдов – хороший прозаик, а Дмитрий Воденников – хороший поэт. Самое ужасное, что это ничего не меняет в альманахе.
Я просто перестал понимать, зачем сейчас делают литературные альманахи. Издательство «Автохтон» печатает книги, в том числе и тех авторов, которые представлены в «Окрестностях». Книги других авторов печатают другие издательства. Если не печатают сейчас, то напечатают потом, я уверен. Никакого нового качества, будучи собраны под одну обложку, эти тексты этих авторов не создают. К одному поколению авторы не принадлежат: самому старшему из них 49 лет, самому младшему (самой младшей) – 22. У одних много публикаций, у других – мало. Эстетически авторов не связывает почти ничего (или просто ничего). Может быть, все дело тут в названии «Окрестности»? В том, что в окрестностях любого русского города много чего можно найти, если хорошенько побродить-поискать? Что альманах – это «стол находок»? Кстати, хорошее название для альманаха. Или уже было такое?
Восьмая книжная полка
Эдуард Багрицкий. Стихотворения и поэмы / Сост. Г. А. Морева, вступ. ст. М. А. Кузмина, послесл. М. Д. Шраера. СПб.: Академический проект, 2000. 304 с.
«Какая рыба в океане плавает быстрее всех?» – вопрошал Борис Гребенщиков в песне примерно 18-летней давности. В поэтико-ихтиологическом дерби бедный карась Олейникова на целый корпус обошел закованного в бронзу cyprinus carpio Багрицкого. Впрочем, цена победы и поражения оказалась одинаковой: карась финишировал в жареном виде, а карп приплыл к столу дымясь, «с пушистой петрушкой в зубах». Сейчас, после затянувшегося на целое тридцатилетие обжорства за поминальным столом обэриутов, олейниковская рыбка обглодана до последней косточки. В багрицком монстре еще есть чем поживиться.
Том Багрицкого в «Малой серии» «Новой библиотеки поэта» вышел как нельзя кстати. Общий ренессанс советского всего, увы, не коснулся главного: потрясающих поэтов, обычно проходящих по романтико-революционному ведомству. Некоторые попытки вспомнить Багрицкого и Сельвинского, Асеева и Тихонова, впрочем, предпринимались – достаточно сослаться на содержательную статью Валерия Шубинского в прошлогоднем «Октябре», своего рода альтернативную концепцию истории советской поэзии. Но историко– (национально-, политико-)культурный контекст заслоняет истинную поэтическую ценность множества стихов, написанных на родине в 30—50-е годы и (что весьма важно) глубочайшим образом повлиявших на последующие поэтические поколения, вплоть до нынешних двадцатилетних. Как бы потом лауреаты не отнекивались от юношеской любви к Слуцкому или Луговскому. Не говоря уже о Багрицком.