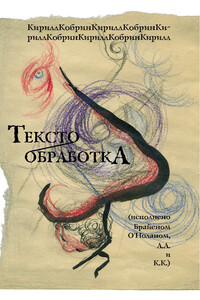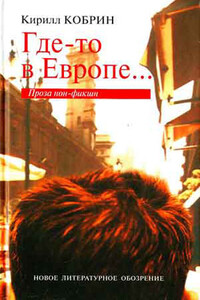Книжный шкаф Кирилла Кобрина | страница 49
Иосиф Бродский. Новые стансы к Августе. СПб.: Пушкинский фонд, 2000. 144 с.
Бродский ценил Нейхофа, считая его поэзию «патентом на благородство» новейшей голландской словесности. «Новые стансы к Августе» тоже, некоторым образом, «патент на благородство» поэзии самого Бродского.
Что это – памятник любви или памятник поэзии? Сказать трудно. В любом случае, практически впервые Бродский издается на родине как «автор поэтических сборников», точнее – как «автор поэтических книг». Не думаю, что Бродский-поэт мыслил «книгами» (я различаю поэтов, «мыслящих стихами», «мыслящих циклами», «мыслящих книгами»). Его обычная единица была «стихотворение», реже – «цикл». К тому же и обстоятельства его жизни до отъезда в эмиграцию не способствовали образованию «долгого дыхания» поэта, настолько «долгого», что от вздоха его до выдоха располагалась бы целая книга стихов. Так или иначе, «Новые стансы к Августе» – книга, собранная postfactum; но это не делает ее ни «лоскутной», ни «эклектичной».
Единство «Новым стансам» придает, во-первых, единство неповторимой бродской интонации, монотонный гул его поэтической речи и, во-вторых, неослабевающий накал чувства к адресату стихов. И действительно, любовь поэта начинается так:
а заканчивается она осознанием, некоторым образом подводящим черту под этим романом – и в житейском, и в литературном смысле:
Возлюбленная дала поэту тот голос, которым он разговаривал с ней.
Григорий Дашевский. Генрих и Семен. М.: Клуб «Проект ОГИ», 2000. 40 с.
Григорий Дашевский, в противоположность «Новым стансам к Августе» Иосифа Бродского, чьи эссе, кстати говоря, он переводил, будучи профессиональным (и замечательным!) переводчиком, составил свою книгу стихов противоположным образом. Я бы назвал ее «наброском ПСС», или «конспектом собрания стихов» автора. Действительно, здесь мы можем обнаружить и поэму («Генрих и Семен»), и цикл («Имярек и Зарема»), и песни, и баллады, и переводы. Книга напоминает ковчег, куда заботливый поэт собрал по несколько генетически ценных представителей разнообразных жанров своих сочинений. Только, в отличие от ветхозаветного спасателя, этого пра-Отца деда Мазая, Григорий Дашевский построил не огромный неповоротливый корабль – четыре мачты, два ряда весел, не более пяти узлов в час, – а легкую маневренную фелюгу, на манер тех, с которых развеселые берберские пираты вплоть до второй половины прошлого века брали на абордаж европейские корабли (так что не каждый отваживался, подобно Готье, путешествовать в Алжир или Тунис).