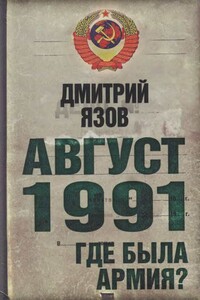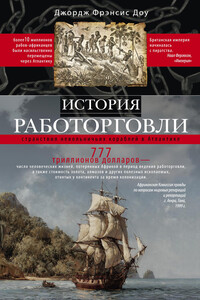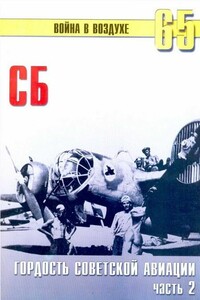Полицейские и провокаторы | страница 59
Совершенно беспрецедентный случай в истории Российской империи, когда монарх передал всю полноту власти другому лицу, превратившемуся в диктатора. Впервые III отделение потеряло прямое подчинение императору и вместе с Отдельным корпусом жандармов поступило в распоряжение Лорис-Ме-ликова. Последний главный начальник III отделения А. Р. Дрентельн лишался командования Отдельным корпусом жандармов, а его место занял генерал-майор П. А. Черевин, друг и самое доверенное лицо будущего императора Александра III.
В состав Верховной распорядительной комиссии вошли: обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, начальник штаба гвардии и Петербургского военного округа генерал-адъютант князь А. К. Имеритинский, П. А. Черевин, управляющий делами Комитета министров М. С. Каханов, сенаторы М. Е. Ковалевский, И. И. Шамшин, обер-прокурор Сената П. А. Марков, правитель канцелярии Министерства внутренних дел С. С. Перфильев и генерал-майор свиты М. И. Батьянов. Все перечисленные лица были назначены в Комиссию ее председателем. Комиссия собиралась всего пять раз [136]. Приступив к работе, она сосредоточила главное свое внимание на политическом сыске.
За все годы существования III отделения оно ни разу не подвергалось независимой ревизии. «Государево око» не только стояло выше законов. Впервые произвести тщательную ревизию деятельности III отделения Лорис-Меликов поручил члену Комиссии сенатору И. И. Шамшину летом 1880 года.
Со слов Шамшина государственный секретарь Е. А. Перетц 29 сентября 1880 года сделал запись в дневнике:
«Все лето провел он (Шамшин.— Ф. Л.), по поручению графа Лорис-Меликова, за разбором и пересмотром дел III отделения, преимущественно о лицах, высланных за политическую неблагонадежность. Таких дел пересмотрено им около 1500. Результатом этого труда было, с одной стороны, освобождение очень многих невинных людей, а с другой — вынесенное Шамшиным крайне неблагоприятное впечатление деятельности отделения. (...)
По словам Ивана Ивановича, дела велись в III отделении весьма небрежно. Как и понятно, они начинались почти всегда с какого-нибудь донесения, например тайного агента, или записанного полицией показания дворника. Писаны были подобные бумаги большею частью безграмотно и необстоятельно; дознания по ним производились не всегда; если же и производились, то слегка, односторонним расспросом двух-трех человек, иногда даже почти не знавших обвиняемого; объяснений его или очной ставки с доносителем не требовалось; затем составлялась докладная записка государю, в которой излагаемое событие освещалось в мрачном виде, с употреблением общих выражений, неблагоприятно обрисовывающих всю обстановку. Так, например, говорилось, что обвиняемый — человек вредного направления, по ночам он сходится в преступных видах с другими подобными ему людьми, ведет образ жизни таинственный; или же указывалось на то, что он имеет связи с неблагонадежными в политическом отношении лицами; далее упоминалось о чрезвычайной опасности для государства — от подобных людей в нынешнее тревожное время и в заключение испрашивалось разрешение на ссылку в административном порядке того или другого лица. (...)