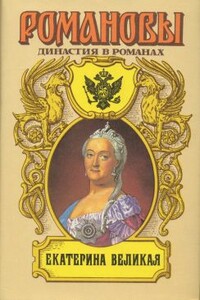День тревоги | страница 42
Его провожали на фронт такой же погодой. В степи разгуливался буран, ныряло в тучах тревожное солнце — словно все пыталось пробиться вниз, к застуженным избенкам, к окнам их и мерзлым завалинкам, к людям; и никак не могло. Был декабрь сорок второго, им, девятерым мобилизованным, предстояло пять суток санного пути до областного центра, до солдатчины. Тронулся под ветреный вой родни обоз, и канули в сухо-морозной пурге, будто камень на недосягаемо глубокое дно, его Подстепки — для многих навсегда. И все время, пока они ехали в тот день, стояла в глазах его мать с уцепившейся за юбку сестренкой Катюшкой, а рядом с ними отец — прямой, прощальный, с остекленевшими от слез глазами, бледным и оттого казавшимся грязным лицом, заострившимся носом. Отец крестил его все время, пока он, жалко и пьяно кривясь в улыбке, усаживался в сани, а мать будто окаменела и только временами шептала что-то омертвевшими губами — молилась за него, за сына, словно предчувствуя, что ему выпадет худшая, чем другим, судьба…
На первой же ночевке, в двадцати с лишним верстах от дому, он сбежал. Встал ночью, будто бы по нужде; перешагивая через спящих на полу одногодков, вышел в сени. На ощупь нашел свой «сидор», заранее отложенный в сторону, натянул поглубже шапку и открыл дверь в темный, шумевший метелью двор. Утомленные долгой дорогой дружки его, уполномоченный военкомата и возницы спали, назначенный дневальный тоже. Он выбрался на пустынно-глухую метельную улицу, ничего не боясь, чувствуя только разламывающуюся пустоту в голове от выпитого днем самогона, и пошел, не оглядываясь, на большак, на темные тени ветел в конце улицы. Ему и совестно не было, и радости не было, что обманул он неминучую; только иногда неизвестно отчего подташнивало, и от этого что-то слабело в нем. Но он ел пресный снег, шел и думать не думал, а помнил отцовское, суровость и скорбь его голоса: «Беги, сынка. Не пытай судьбы, она пытанная — беги!» Голос негромкий, старый, но властный: «Беги. Войне вот-вот конец. Москва уже горит, полымем взялась — а нам, Дерябиным, жизню класть на фронте незачем. Нас в тридцать первом не спросили, когда по миру пустили. Не отделись мы с брательником вовремя, не притворись голытьбой — так бы и сгнили с твоим дедом в Соловках. Так и теперь: главно — живым остаться. Переждешь до конца у дядьки на хуторе, пересидишь лихолетье, а там видать будет. Понадобится — мы и под немцем окрепнем, коренья пустим, а ты — беги, дядька ждать тебя будет. Сейчас им некогда искать тебя: вона как переполошились, ног под собой не чуют, ночьми не спят… Не думай. Беги!»