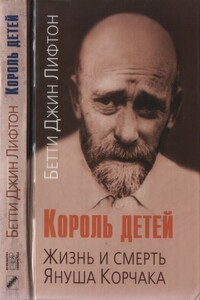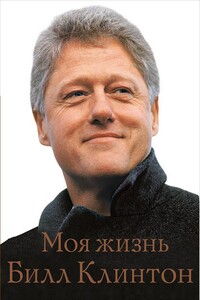Автобиография | страница 36
Несмотря на расхождения во взглядах, среди квакеров были люди, которые вызывали у меня искреннее восхищение. Могу назвать казначея Антимобилизационного комитета мистера Грабба. Когда мы впервые встретились, это был старик семидесяти лет, очень тихий, всегда державшийся в тени, малоподвижный, сдержанный. Без лишних слов и видимых эмоций он выступал в защиту молодых людей, томящихся в тюрьме, мало заботясь о собственной безопасности. Мой брат находился в зале суда, когда Грабба вместе с группой единомышленников приговорили к тюремному заключению за пацифистские публикации. Брат, не принадлежавший к пацифистскому движению, был потрясен силой характера и цельностью этого человека. Фрэнк сидел рядом с общественным обвинителем Мэттьюзом, своим другом. Когда тот сел, проведя перекрестный допрос мистера Грабба, брат шепнул ему: «Признаться, Мэттьюз, роль Торквемады тебе не к лицу!» Эта реплика так разозлила Мэттьюза, что он перестал разговаривать с Фрэнком.
Одним из самых забавных случаев, имевших ко мне непосредственное отношение, был вызов в министерство обороны. Вкрадчивые чиновники умоляли меня не терять чувства юмора, ибо, по их мнению, человек с чувством юмора не станет высказываться в пользу непопулярных мнений. Однако их увещевания пропали втуне, а я потом пожалел, что не сказал им, как помирал со смеху каждое утро, читая в газетах о военных потерях.
Когда война кончилась, стало очевидно, что все сделанное мною не принесло никакой пользы никому, кроме меня. Я не спас ни единой жизни и ни на минуту не приблизил конец войны. Не смог сделать ничего такого, что смягчило бы последствия Версальского договора. Однако, как бы то ни было, я не сделался соучастником преступлений воюющих стран, а сам обрел новую философию и новую молодость. Я избавился от резонерства и от пуританства. Выучился понимать язык инстинктов, которым ранее не владел, и отчасти вознаградил себя за годы одиночества. Во время перемирия многие возлагали большие надежды на Вильсона. Другие искали вдохновляющий пример в большевистской России. Обнаружив, что не могу черпать оптимизм ни в том, ни в другом источнике, я тем не менее не впал в отчаяние. Я считал, что худшее еще впереди. но это не лишило меня веры в то, что мужчины и женщины в конце концов откроют для себя простую тайну естественных радостей. <…>
Россия
Окончание войны помогло мне избежать неприятностей, которые в противном случае не миновали бы меня. В 1918 году подняли призывной возраст, и я подлежал мобилизации, чему, конечно, никак не мог подчиниться. Меня вызвали на медицинскую комиссию, но, несмотря на все усилия, не смогли вручить мне повестку: правительственные чиновники забыли, что упекли меня в тюрьму. Если бы война еще продлилась, я вскоре опять попал бы туда как узник совести. С финансовой точки зрения конец войны оказался также крайне для меня благоприятным. Я спокойно тратил наследственные деньги, когда работал над «Principia Mathematica». Но совесть не позволяла мне жить на капитал, полученный после смерти бабушки, и я подарил его Кембриджскому университету, Ньюнем-колледжу и прочим образовательным заведениям. Избавившись от ценных бумаг, которые я отдал Элиоту, я остался примерно с сотней фунтов ежегодно поступающих незаработанных денег — согласно брачному договору, этот минимум я уже никому не мог передать. Все это меня не пугало, поскольку я научился зарабатывать деньги книгами. Правда, в тюрьме мне разрешалось писать только о математике, а не о том, на чем можно было бы заработать. Так что, выйдя из тюрьмы, я оказался бы без единого пенни в кармане, если бы Сэнгер и некоторые другие друзья не устроили для меня лекции в Лондоне. С окончанием войны я опять мог зарабатывать писательством и уже не испытывал материальных затруднений, если не считать пребывания в Америке.