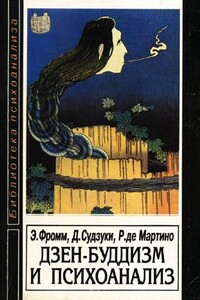Здоровое общество | страница 99
Не кто иной, как Адам Смит[168] увидел основополагающую роль потребности в обмене и истолковал ее как главный импульс, движущий человеком. Он говорит: «Разделение труда, приводящее к таким выгодам, отнюдь не является результатом чьей-либо мудрости, предвидевшей и осознавшей то общее благосостояние, которое будет порождено им: оно представляет собою последствие – хотя очень медленно и постепенно развивающееся – определенной склонности человеческой природы, которая отнюдь не имела в виду такой полезной цели, а именно склонности к торговле, к обмену одного предмета на другой.
В нашу задачу в настоящий момент не входит исследование того, является ли эта склонность одним из тех основных свойств человеческой природы, которым не может быть дано никакого дальнейшего объяснения, или, что представляется более вероятным, она является необходимым следствием способности рассуждать и дара речи. Эта склонность обща всем людям и, с другой стороны, не наблюдается ни у какого другого вида животных, которым, по-видимому, данный вид соглашений, как и все другие, совершенно неизвестен… Никому не приходилось видеть, чтобы одна собака сознательно менялась костью с другой»[169].
Действительно, принцип обмена во все больших масштабах на национальном и мировом рынках является одним из основополагающих экономических принципов капиталистической системы, но Адам Смит предугадал, что этому принципу предстояло стать одной из глубочайших психических потребностей современной, отчужденной личности. Обмен утратил свое разумное назначение как простое средство достижения экономических целей, он стал самоцелью, вышел за пределы экономики и проник в другие сферы жизни. В приведенном примере «обмена» между двумя собаками Адам Смит невольно сам указывает на иррациональность этой потребности. Никакой практической цели у этого обмена и быть не могло: либо обе кости одинаковы – и тогда нет никакого смысла меняться ими, либо одна из них лучше другой, но тогда собака – обладательница лучшей кости – не стала бы добровольно обменивать ее. Этот пример обретает смысл только в том случае, если мы предположим, что обмен нужен ради него самого, даже если он не служит никакой практической цели, – а именно это и предполагает в действительности Адам Смит.
Как я уже упоминал в другом контексте, пристрастие к обмену пришло на смену пристрастию к обладанию. Человек покупает машину или дом, намереваясь при первой же возможности продать их. Однако более важным является то, что стремление к обмену сказывается и в области межличностных отношений. Любовь часто оказывается не чем иным, как подходящим обменом между двумя людьми, получающими максимум того, что они могут ожидать, исходя из своей цены на рынке личностей. Каждый человек представляет собой своеобразный «набор», в котором разные аспекты его меновой стоимости сливаются в одно: его «личность». При этом под личностью подразумевают те качества, благодаря которым человек может удачно продать себя. Внешний вид, образование, доход, шансы на успех – вот тот набор, который каждый человек стремится обменять на возможно большую стоимость. Даже посещение вечеров и вообще общение с людьми в значительной степени становится обменом. С целью завязать контакты, а возможно, и совершить выгодный обмен, индивид стремится встречаться с «наборами», котирующимися несколько выше, чем он сам. Человек хочет обменять свое общественное положение, т. е. свое собственное Я, на более высокое; при этом он меняет прежний круг друзей, прежние привычки и чувства на новые, подобно тому как владелец «форда» меняет его на «бьюик». И хотя Адам Смит считал эту потребность в обмене свойством человеческой природы, в действительности она служит признаком абстрактного и отчужденного отношения к окружающему, присущего социальному характеру современного человека.