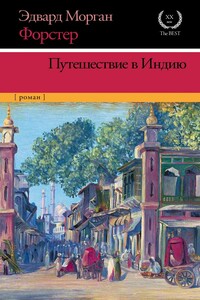M/F | страница 96
Постель расстелена на односпальном диване с пестрой фактурной обивкой (с ярким, аляповатым вышитым узором: красные листья, зеленые пагоды, оранжевые попугаи); днем, в собранном виде, он, надо думать, служил предметом декора. В постели была Катерина в не совсем свежей ночной рубашке, собранной в гармошку на талии в некоем подобии камербанда стараниями мужчины, который, как я теперь распознал, был скорее насильником, нежели любовником. Ее большие, дрожащие как желе сиськи были вывалены наружу, и мужчина целовал их поочередно в лихорадочном быстром ритме. Со стороны это смотрелось так, словно он исполнял головой балет, ну, скажем, под симфонию Гайдна «Часы». Катерина это ему позволяла, потому что обе ее руки были заняты: отбивали попытку атаки снизу. Хотя отбивалась она как-то слабо, уж не знаю почему. Возможно, борьба продолжалась значительно дольше, чем я думал. Мужчина был полностью одет, только ширинка расстегнута, словно он находился в сортире, а не в будуаре. Одной рукой он тщился направить проникновение, до сих пор безуспешное, а второй — весьма цинично, в свете балета под Гайдна — пытался придержать Катерину посредством каких-то шнурков-поясов, зажатых в кулаке. Разумеется, это был Ллев.
Катерина заметила меня первая, и вид точной копии насильника, застывшей в дверях в позе несомненного довольства, придал ей силы для новой порции воплей. Возможно, довольство было неизбежно, потому что Катерина несла наказание за дерзость быть моей неприятной, противной сестрой, хотя это было не то наказание, которое лично я счел бы подходящим для такого проступка. Когда я увидел, что это Ллев, мои первые удивленные мысли о том, как он вообще умудрился пробраться сюда и сделать то, что делал, были оттеснены, словно начало очереди, отодвинутой дородным швейцаром, пропустившим вперед благоговейное принятие некоей высшей уместности этой сцены: что именно Ллев выступил в роли того, кто доставит моей сестре либо боль, либо наслаждение. В каком-то смысле эти двое были предназначены друг для друга, и «Отрубленная голова» или какая-то другая подобная группа могла бы сделать из этого песню с хрипящими модуляциями и истерзанными гласными звуками. Очередь по-прежнему не продвигалась, поскольку первый благоговейный трепет сменился другим, в высшей степени мистического или метафизического порядка. Мой отец был, вне всяких сомнений, безумен. И было ему безумное видение. Ему представилась дочь, подвергавшаяся сексуальному домогательству человека с моей наружностью, и он ошибочно принял его за меня. Безумие, как и большое искусство, прет напролом сквозь чащобу пространства и времени, прорубая себе дорогу ментальным