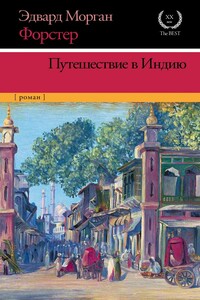M/F | страница 76
— Прошу прощения, но мне надо…
— Поберегите себя, молодой человек. Удовольствия этого мира, даже будучи феноменом сознания, все равно не теряют своей остроты. Но я предвкушаю иные приятности. Встречу с епископом например.
— С епископом?
Но он уже уходил сквозь толпу, чуть склонившись вперед, его руки тоже тянулись вперед, как бы стремясь сгрести землю когтями. Несостоявшийся лев. Толпа вежливо пропускала его. У него явно не было никакой посудины, но он шел узреть mijregulu. А я собирался увидеть совсем другое.
Я разыскал улицу Индовинелла, расспросил скептиков, предпочитавших свои магазины кровоточащему zab младенца Исы. Это была небольшая, мощенная булыжником улочка, круто поднимавшаяся в гору. Там была парочка старомодных таверн и несколько жилых домов с садами за высокими каменными заборами. Дома были узкими, но недостаточная ширина компенсировалась высотой — четыре-пять этажей. В одном из этих домов хранились заброшенные произведения искусства, ради которых я и приехал в такую даль, приложив столько усилий и — да! — претерпев столько мучений. Ученый муж с бойким дружком не смог подсказать мне название или номер дома. Раньше, как ему помнилось, там на воротах была деревянная табличка, но ее давно отодрали то ли мальчишки-проказники, то ли семья бедняков, нуждавшихся в топливе. Он побывал там однажды, давным-давно, и то, что увидел, ему не понравилось. Ключ от дома висел на гвозде в табачной лавке, и, вероятно, висит до сих пор, потихонечку окисляясь. Ученый муж не советовал мне посещать этот дом: определенно я там увижу не утонченное искусство, а тошнотворное сумасшествие.
Я прошелся по улице из конца в конец, но не обнаружил табачной лавки. Зашел в таверну под названием «А ну-ка, парни!», хотел расспросить местных, и пока дожидался бармена, стоя у покинутой стойки, услышал голос из темноты: Эй! Я обернулся и оглядел пустой сумрак, пытаясь понять, откуда идет этот голос.
— Эй!
Я все-таки высмотрел темную фигуру в глубине бара и направился к ней: может быть, это пьяный хозяин. Но это был один из той сладкой парочки педермотов, Эспинуолл, лысый, тучный, в изрядном подпитии, с нарушенной координацией и трясущимися руками. Глаза потихоньку привыкали к темноте, я уже видел надпись на этикетке бутылки, стоявшей у него на столе: «Аззапарди. Белый тростниковый ром». Эспинуолл заговорил, дохнув на меня мощной сладостью:
— Не долго же он продержался, скотина, да?
— Кто? Он что, удрал? Твой дружок-стихоплет?