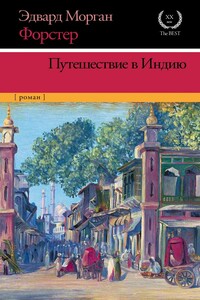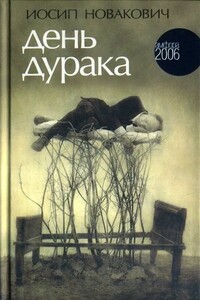M/F | страница 64
мой голос был не более чем простым инструментом общения, старой раздолбанной тачкой, которая в принципе едет туда, куда надо, а уж какой она там модели — это дело десятое. А для меня его голос, который в первые пару минут я пожирал с тошнотворной жадностью, был ненавистным благословенным ключом к возвращению к беспредельному многообразию жизни, против которого мы с ним святотатствовали на пару… нет, святотатствовал только он, он один. Тембр его голоса был почти как у меня, но фонемы — вещи, по сути, заученные, просто декоративная косметика, и не более того, — звучали на американо-валлийский лад. Пенсильвания? Он сказал, что его зовут Ллев. Сокращенно от «Ллевелин».
Это был его дом на колесах. Дверь вела к простейшим передвижным удобствам, воде и газу. Была еще одна дверь — в комнату его матери, в данный конкретный момент пустующую. Просторно, вполне уютно. Когда надо было куда-то ехать, трейлер цепляли к «сирано» с откидным верхом, который вел Ллевелин. Это была его работа. Ллевелин — а фамилия? Ллевелин — это и фамилия, и имя. А для краткости — просто Ллев. Мать не стала морочиться с именем, когда оформляла его документы. Сама она — Адерин, Царица Птиц. Представь, твоя мама — Царица Птиц! Как тебе это понравится? Его отец? Умер от рака легких. Нервно высаживал по четыре пачки в день, когда ему пришлось оставить профессию канатоходца. Ни у меня, ни у него не возникло даже мысли о том, что у нас могут быть одни и те же родители. Кем бы он ни был, он не был моим близнецом. Его вульгарное скудоумие проявлялось в плакатах, приклеенных к стенам: пустые ухмылки, бюсты, вываленные наружу, одинокий гитаромучитель с пышными бакенбардами, квартет волосатых задротов, философов музыки, обладателей золотого диска. У него был свой проигрыватель, пластинки-сорокапятки валялись на съемной крышке как непитательные лакричные пастилки, пустые конверты со зверскими рожами: «Засади», «Подонки общества», «Ахрен ли нам», «Молитва черному аду», «Большой болт и мочалки». Книжка, которую он читал, называлась «Петушок не промах», явно не детская сказка, а разухабистая история о грубых и жестких победах, истекающих спермой, — из тех историй, в которых все представление об удовольствии сводится к женской агонии.
Мое отвращение было не связано с нравственностью и моралью; это было то самое чувство, которое — как я теперь понимаю, потому что тогда еще не знал этого слова, — называется онтологической ненавистью. Само существование этого человека в одном со мной мире оскорбляло меня до глубины души, до самых заветных и сокровенных ее глубин. Мне было обидно, что вот