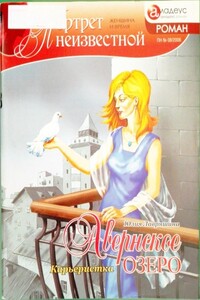Гринвичский меридиан | страница 45
Когда пришло время подавать второе, мама вызвала меня на кухню и, притворив дверь, возмущенно зашептала:
— Слушай, что он с тобой сделал? Ты так пожираешь его глазами, что мне даже страшно становится! Неужели он такой…
Она продолжила фразу жестом. Было заметно, что маме просто не терпится все выведать, все-таки Пол был ее возраста, даже чуть старше.
— Такой, — подтвердила я, не решившись посвятить ее в подробности.
— Ну надо же, — вздохнула она. — И где ты его только откопала? Он богатый?
— Вроде не бедный.
— Ты проверила, он точно не женат?
— Мама, как это можно проверить?!
— Разве у них в паспортах нет графы "семейное положение"?
Она уже начинала раздражать меня, и в то же время я понимала, что мама просто обязана проявить заботу. К тому же она действительно любила меня, несмотря на то, что я всегда доставляла ей много хлопот. Впервые учительница посоветовала сводить меня к психиатру, когда мне было не больше десяти. "Ваша девочка видит то, чего не видят другие дети", — заявили маме. На это она гордо ответила: "Выходит, моя дочь — гениальна!"
Хоть ее вызывающие слова до сих пор не подтвердились, я все равно была благодарна маме за то, что она не сдала меня в больницу в столь раннем возрасте. В те года гнет таланта еще не надломил меня, но случилось другое — меня лишили моего леса. Я выросла, как дриада, среди деревьев, потому что у папиных родителей была большая благоустроенная дача. Мой дед возглавлял областной отдел здравоохранения, но главным человеком, о чьем здоровье он заботился, была я. Прошло почти пятнадцать лет с тех пор, как он угодил в трещину, расползшуюся по стране, и нашу дачу заселили другие люди, а я до сих пор помнила, как шагают по ладони бурые сосновые иглы, как шуршит ствол, если провести по нему рукой, как сладко пахнет земля в солнечный полдень… Такие же ощущения позднее я испытывала и в бору, который подступал к моему нынешнему дому, но самыми выпуклыми и яркими оставались те, детские впечатления. Много раз я рисовала тот лес по памяти, и у меня всегда получалось.
Мой мозг отказывался принять простую истину — я больше не буду валяться под вечер в гамаке, от которого на голых ногах оставались красные переплетения, каждое утро больше не будет звенеть птичьими голосами, а шепот сосен, который сулил скорое осуществление всех надежд, не сможет настичь меня в городе, где я чувствовала себя, как в одиночной камере. Дети избегали меня, а общаться с карагачами мне было не дано.