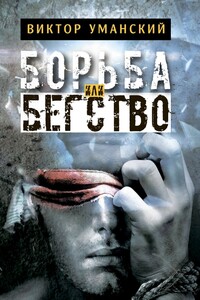Шалом | страница 31
Многие в городе давно закрыли бы Тахелес как рассадник пьянства, блядства и всякого безобразия. Но он стал таким культовым местом, что туристы строем шли взглянуть на этот островок хаоса среди сияющих свежим ремонтом фасадов Восточного Берлина. Поэтому, чтобы не поднимать лишнего шума, его оставили на время в покое как один из берлинских аттракционов для толп непривередливых и любознательных узкоглазых человечков с фотоаппаратами «Сони» в руках.
Мрачное здание Тахелеса, похожее на гигантскую буханку черного прогорклого хлеба, возвышалось в самом конце улицы. Своим видом оно больше напоминало берлинский дом, который после войны по каким-то причинам не стали приводить в порядок, а оставили как есть – со следами от пуль, разводами плесени на фасадах, осыпавшейся штукатуркой и надписями триумфаторов на стенах.
Войдя в Тахелес с парадного входа, Андрэ с Ингрид поднялись по измалеванной лестнице на четвертый этаж. Здесь уже много лет располагалось мастерская, в которой жил Федор – старинный приятель из Минска.
Остановившись перед дверью с прилепленной скотчем бумажкой, на которой от руки, небрежно, артистическим почерком было написано – «ателье Федора», Андрэ постучал. За дверью царило молчание, но, когда он ударил несколько раз посильнее, с той стороны послышался шорох неторопливых шагов.
– О-о-о-о-о-о! Какие люди! – На пороге в нижнем белье стоял Федор. Голова его была всклокочена, лицо выглядело заспанным и немного помятым, но широкая улыбка, завершающая эту конструкцию, придавала ему вид вполне обаятельный и даже милый.
– Андрюха, какими судьбами? – Федор, как это обычно принято у хоббитов, полез было обниматься, но, обнаружив за спиной Андрэ Ингрид, засмущался и принялся натягивать брюки.
– Это Ингрид!
– Федор! А у нас тут вчера… Ну, одним словом, чума, понимаешь, мы только недавно шляфэн легли! – протянув руку Ингрид, он с любопытством окинул ее взглядом.
Федор был старожилом берлинской колонии. Но главное, он являл собой образ кристально чистого, без посторонних примесей и добавок настоящего солдата искусства. Того, для кого походы, тяготы неустроенной жизни в окопах, пятна берлинской лазури на брюках, вонь растворителей у подушки, арт-обстрелы, бомбежки, налеты на галереи и дармовые фуршеты были делом обыденным и в то же время любимым. Он не представлял, не знал, да и знать не хотел другой жизни. Федор отдавался служению целиком, был готов нести этот крест самозабвенно, не требуя ни наград, ни званий, ни почестей посмертной славы.