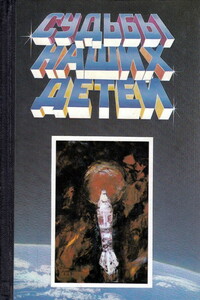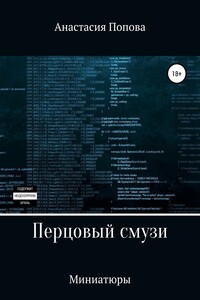Любовь... любовь? | страница 59
— А как же он мог сочинять музыку, если он был глухой? — Этот зазнайка Роули вечно что-нибудь придумает. Скоро он начнет рассказывать про слепых живописцев.
— Музыка у него была в уме, — говорит Роули. — Он ее нутром слышал. Ему оставалось только ее записать.
— А по-настоящему не слышал?
— Конечно. Эта мура, которую ты видишь в фильмах, когда композитор сидит у рояля и подбирает мелодию, — выдумки Голливуда. Ну, если не выдумки, то, во всяком случае, это сильно преувеличено. Первоклассному музыканту достаточно увидеть ноты, чтобы мысленно услышать музыку. И композитору вовсе не обязательно слышать музыку, он может просто взять и записать ее на бумаге.
Интересно. Я даже на минуту забываю об Ингрид. Конечно, я не верю всему, что говорит Роули, потому что он великий выдумщик, но я могу проверить это потом у мистера ван Гуйтена. Он-то уж знает.
— Первоклассный музыкант, — говорит Роули, — может прочесть оркестровую партитуру так же легко, как обычный человек читает книгу.
— Тогда, значит, он всегда замечает, если кто-то взял не ту ноту?
— Совершенно верно. Есть даже такие музыканты, которые считают, что им никогда не услышать идеального исполнения любимой вещи, поэтому они вообще перестают слушать музыку и только читают партитуры.
— Ну, это все равно что заниматься онанизмом, потому что нет идеальной женщины, — говорит Конрой, сидящий рядом с Роули. Тот заливается краской и больше за весь обед не произносит ни слова.
А я улыбаюсь: правда, я люблю Конроя не больше, чем Роули, но тут он лихо его поддел и сбил с него спесь. Во всяком случае, заставил замолчать, и теперь я снова могу мечтать об Ингрид. Она мне нравится. Мне нравится в ней все. Нравится ее короткая стрижка и этот завиток над ухом. Нравятся ямочки в уголках ее рта и самый рот, полный, нежный, словно созданный для поцелуя. Я вспоминаю, как целовал этот рот. Интересно, буду ли я еще когда-нибудь целовать ее? Она чувствует, что я наблюдаю за ней, и на секунду ее глаза встречаются с моими. Но она тут же отводит взгляд. Можно подумать, что мы никогда и двух слов не сказали друг другу. И не сидели рядом в теплой, душной темноте кино. Можно подумать, что ничего этого не было. В половине четвертого я все еще мечтаю о ней, когда она проходит по нашему залу с блокнотом и карандашом в руке — видимо, идет стенографировать к Миллеру. Я поднимаю глаза от чертежа и провожаю ее взглядом. Какая она стройненькая в этой юбке, и как хороши ее ноги в темных нейлоновых чулках.