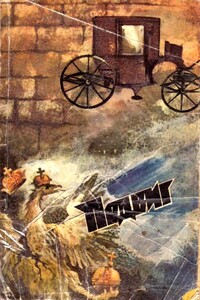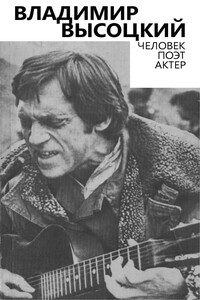Под управлением любви | страница 46
У меня медаль в столе. Я почти что был героем.
Манекены без медалей, а одеты хоть куда.
Я солдатом спину гнул, а они не ходят строем,
улыбаются вальяжно, как большие господа.
Правда, я еще могу ничему не удивляться,
выпить кружечку, другую, подскользнуться на бегу.
Манекены же должны днем и ночью улыбаться
и не могут удержаться. Никогда. А я могу.
Так чего же я стою перед этою витриной
и, открывши рот, смотрю на дурацкий силуэт?
Впрочем, мне держать ответ и туда идти с повинной,
где кончается дорога… А с него и спросу нет.
«Как улыбается юный флейтист…»
Как улыбается юный флейтист,
флейту к губам прижимая!
Как он наивен, и тонок, и чист!
Флейта в руках как живая.
Как он старается сам за двоих,
как вдохновенно все тело…
И до житейских печалей моих
что ему нынче за дело?
Вот он стоит у метро на углу,
душу раскрыв принародно,
флейту вонзая, как будто иглу,
в каждого поочередно.
Вот из прохладной ладони моей
в шапку монетка скатилась…
Значит, и мне тот ночной соловей —
кто он, скажите на милость?
Как голосок соловья ни хорош,
кем ни слыву я на свете,
нету гармонии ну ни на грош
в нашем счастливом дуэте.
«Вот какое нынче время…»
Вот какое нынче время —
всё в проклятьях и в дыму…
Потому и рифма «бремя»
соответствует ему.
«Ах, если бы можно уверенней…»
Ax, если бы можно уверенней
и четче в сей трудный момент:
расплывчатость чистых намерений —
не лучший к добру аргумент.
«Тянется жизни моей карнавал…»
Тянется жизни моей карнавал.
Счет подведен, а он тянется, тянется.
Все совершилось, чего и не ждал.
Что же достанется? Что же останется?
Всякая жизнь на земле – волшебство.
Болью земли своей страждем и мучимся,
а вот соседа любить своего
всё не научимся, всё не научимся.
Траты души не покрыть серебром.
Все, что случается, скоро кончается.
Зло, как и встарь, верховодит добром…
Впору отчаяться, впору отчаяться.
Всех и надежд-то на малую горсть,
и потому, знать, во тьме он и мечется,
гордый, и горький, и острый как гвоздь,
карий и страждущий глаз человечества.
Рай
Я в раю, где уют и улыбки,
и поклоны, и снова уют,
где не бьют за былые ошибки —
за мытарства хвалу воздают.
Как легко мне прощенье досталось!
Так, без пропуска, так, налегке…
То ли стража у врат зазевалась,
то ли шторм был на Стиксе-реке,
то ли стар тот Харон в своей лодке,
то ли пьян как трактирный лакей…
«Это хто ж там, пугливый и кроткий?
Не тушуйся, все будет о’кей.
Не преминем до места доставить,
в этом я побожиться могу…
Но гитару придется оставить
в прежней жизни, на том берегу.
Книги, похожие на Под управлением любви