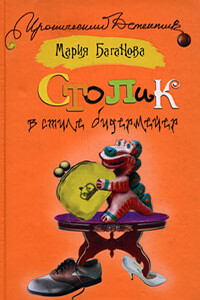Лев Толстой. Психоанализ гениального женоненавистника | страница 44
Я решил, что, когда больной проснется, вполне могу избрать в качестве темы для разговора – именно его кавказские приключения. Воспоминания о молодости, о военных подвигах, по моему мнению, должны были ободрить больного.
Проснулся Лев Николаевич около шести часов пополудни. В это время Чертков и Маковицкий ушли к соседям, у которых сняли комнату, а Александра Львовна суетилась на кухне вместе с девушкой-прислугой, и так вышло, что я вновь остался со Львом Николаевичем наедине. Из амбулатории пришел фельдшер для помощи в некоторых гигиенических процедурах, а после мы со Львом Николаевичем продолжили беседу, и я спросил его о Кавказе.
– Мысль поехать на Кавказ была внушена мне свыше, – многозначительно произнес он бодрым голосом. – Там я стал лучше. Это рука Божия вела меня, о чем я не устаю Его непрестанно благодарить!
Лев Николаевич принялся рассказывать с увлечением, и мне показалось, что воспоминания о молодости ему приятны.
– До назначения своего кавказским наместником князь Барятинский являлся начальником левого фланга кавказской армии. Вот к этому-то времени относится моя служба на Кавказе. Не забуду удивительные виды этого края! Там, среди гор, все столичные воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. Там я стал вновь молиться Богу. Сладость чувства, которую я испытывал порой на молитве, передать невозможно. – Голос его окреп под влиянием эмоционального возбуждения. – Я желал чего-то высочайшего и хорошего, но чего, – я передать не могу, хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим, я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил его, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все – и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств – веры, надежды и любви – я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера, – это любовь к Богу, любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное.
Я стал просить его не волноваться, уговаривал закончить рассказ, но мои слова показались больному даже обидными, и мне пришлось смириться.
– Как страшно мне было смотреть на все мелочные, порочные стороны жизни! – продолжил он. – Я не мог постигнуть, как они могли завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно свое! Я не чувствовал плоти, я был… но нет, плотская, мелочная сторона всегда брала свое, и я вновь почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустую сторону жизни… – тогда порывы религиозного восторга сменялись временами тоски и апатии. И я думал обо всех неприятных минутах моей жизни, которые в тоску одни лезут в голову… – нет, слишком мало наслаждений, слишком способен человек представлять себе счастье, и слишком часто так, ни за что судьба бьет нас больно, больно задевает за нежные струны, чтобы любить жизнь, и потом что-то особенно сладкое и великое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками и приходить в отчаяние, что у меня левый ус выше правого, и я два часа расправляю его перед зеркалом. Лишь позднее я понял, что война – это никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей.