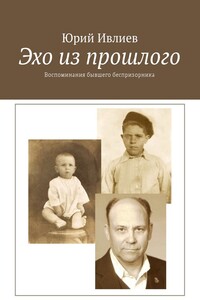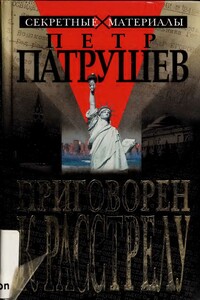Последняя повесть Лермонтова | страница 24
Лермонтов не полемизировал с Одоевским по существу литературной проблематики, — напротив, он использовал его находки и достижения. Нет сомнения, однако, что рационалистический мистицизм Одоевского служил для него одной из точек отталкивания, и, быть может, в противовес «серьезным» фантастическим повестям, каких требовала от Одоевского Ростопчина, он прочел ей и другим «страшную» повесть, которую можно было при желании толковать как шутку и мистификацию. Возможности к такой трактовке открывала ее амбивалентная поэтика. Он создал вокруг чтения атмосферу таинственности — той же самой, которая звучала некогда в его полупародийной речи о магии чисел. Он явился при свечах, с тетрадью, показавшейся Ростопчиной «огромной», и прочитал своим слушателям повесть, специально приготовленную для мистифицирующего устного чтения.
Автограф «Штосса» дает основания для такого предположения[55]. По нему видно, что первоначально четвертая (последняя) глава оканчивалась словами: «Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете, часто не обедал». Далее стояла цифра «5»: Лермонтов предполагал начать следующую главу. Отказавшись от этого намерения, он продолжил после какого-то перерыва главу четвертую (продолжение написано более тонким пером, и строки проходят по цифре «5») и в один прием дописал известное нам окончание повести. Соллогуб, располагавший последним листом автографа, напечатал по нему концовку: «Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился» (VI, 366).
На этих словах Лермонтов закончил чтение, доведя действие до кульминации и блестяще рассчитав силу эффекта обманутого ожидания. Он сделал то, что до него делал Ирвинг и почти одновременно с ним Жуковский и другие многочисленные русские повествователи, например Марлинский («Путь до города Кубы», 1836; «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», 1830). Повесть была подана слушателям как мистификация.
Как бы ни решался вопрос о дальнейшем ее продолжении, в момент чтения она мыслилась как законченная, ибо самая ее незаконченность оказывалась сознательным художественным приемом. Мы вправе думать, что она была дописана таким образом накануне устного чтения и в расчете на него и в процессе этого чтения получила дополнительные акценты, выдвинувшие на передний план иронически-мистифицирующее начало. Мы сталкиваемся, таким образом, с явлением, которое могли бы обозначить как «конвенциональная», «дополнительная» поэтика, зависящая от особых условий литературного бытования, — в данном случае устного произнесения текста.