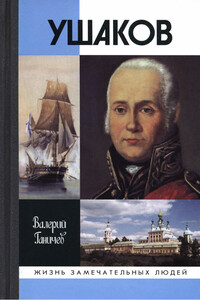Все самое важное | страница 17
Мы не знали ничего определенного о немецкой оккупации, так как успели бежать из Польши, и до конца не представляли себе, что там происходит. Но мы точно знали о несметном количестве поляков, уничтоженных в Советах, о том, сколько их полегло на бескрайних просторах этой страны. Правда, слышали, что в самой Польше положение было не менее опасным. В первые же дни прихода немцев гестапо стало искать Александра. Он находился в списке лиц, подлежащих расстрелу. Я не знаю, как бы поступила, оставаясь в Польше. Не знаю, как бы перенесла эту угрозу. (Потом, в Казахстане, во мне пробудились силы, о которых я даже не подозревала.)
Во Львове я не была знакома с людьми, занимавшимися исключительно идеологической деятельностью, но почему-то уверена, что и ими в основном двигал страх. Ибо в этой системе страх — основной стимул любого действия. Знаю также, что некоторым предлагали поехать в Москву — существовала такая тенденция привлечения в Россию польских интеллектуалов.
Не понимаю, как можно объяснить поведение Важика, который побывал там и, разумеется, видел и знал, что происходит… Как объяснить всю его дальнейшую многолетнюю и яростную деятельность в защиту режима?
До нашего возвращения из Казахстана Важик не поддерживал никаких контактов с Александром. Впервые я побывала в его доме, когда спустя 21 год приехала в Польшу. Павел Герц[15] сказал мне: «Знаешь, это очень старый, больной человек. Он будет рад, если ты его навестишь». Я тогда вспомнила и об открытом письме Важика, опубликованном в 1946 году в Kuznicy, где упоминалось, что Александра выпустили из России. Именно это воспоминание заставило меня нанести ему визит, который оказался интересным и волнующим.
Итак, я позвонила ему. Он действительно очень обрадовался и тепло меня принял. Я увидела Важика — старого, измученного болезнью, находящегося на обочине жизни… После долгого перерыва я оказалась рядом с человеком, которого знала молодым. Он приходил к нам. Помню, какие у него были чудные, небесного цвета глаза, сверкающие как звездочки. Правда, я всегда обращала внимание на то, что его лицо, как правило, ничего не выражало. И только теперь, на старости лет, на нем читалось все пережитое. Важик был маленького роста, но голова его напоминала львиную. Я даже сказала ему об этом, чем вызвала довольный смех. В самом начале нашего разговора он как-то очень быстро произнес: «Знаешь, а ведь когда-то я был сталинистом». По-видимому, это застрявшее в памяти воспоминание очень его угнетало. «Знаю, знаю», — ответила я. Наша встреча всколыхнула в нем воспоминания молодости, что, несомненно, располагало к разного рода признаниям. В какой-то момент в коридоре, ведущем в кабинет, где мы сидели, показалась его жена… Сейчас этот дом уже не был местом, о котором говорилось, что здесь всегда можно вкусно поесть, что столовое серебро и сервировка стола великолепны, а ежемесячные доходы очень велики. Нас сюда раньше не приглашали. Адам избегал Александра как «контрика», с трудом терпимого властью. Он старался не говорить с ним на актуальные темы культурной политики.