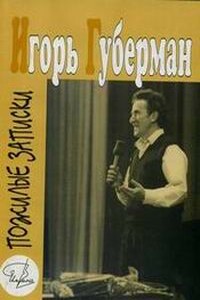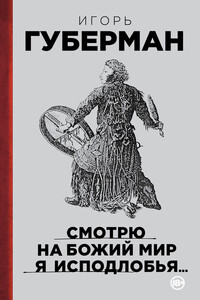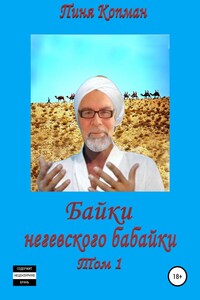О выпивке, о Боге, о любви | страница 48
– О Господи, так это же вас сглазила… – и в точности назвала имя. – За ней давненько это водится, – добавила она и, даже не спросив у меня подтверждения, продолжила какую-то историю.
Вот какая дикая энергия содержится порой в вульгарной зависти. И не исключено, что, будучи направлена вовнутрь, эта энергия способна человека подтолкнуть на дивное развитие себя в том направлении, где далеко маячит тот, кто зависть вызвал.
У поэта Саши Аронова (ему довольно много лет, но я-то его знаю ещё Сашей) был в незапамятные годы нашей юности один рассказ – о зависти как раз, а если точным быть – о кругообороте зависти в природе. Ничего точнее я не слышал никогда, и потому перескажу его, как помню, близко к тексту.
Если бы я был прозаик, начинался тот рассказ, я написал бы, как мальчик любит девочку. Но девочка не любит мальчика, она влюблена по уши в студента-первокурсника Литературного института. Он весь из себя умный и начитанный, он пишет прозу, и в одном журнале обещали его скоро напечатать. Только не сказали, когда именно, но девочку и это восхищает. А влюблённый мальчик, жгучую испытывая неприязнь и зависть к этому сопернику-удачнику, пришёл в Литературный институт, чтоб лично посмотреть, каков он из себя и чем прельстил ту девочку. И вот стоит тот мальчик во дворе, конца занятий ожидая, и от нечего делать разговаривает с симпатичным дворником, ему доверчиво открывшись неожиданно для самого себя. А студент ничего не знает о терзаниях мальчика, у него свои душевные занозы. Он сидит на лекции, не слыша ничего, и думает о том, как хорошо бы так писать, как это делает Эрих Ремарк. Чтоб так же мужественно, твёрдо и с такой же красотой характеров. А между тем Эрих Ремарк и знать не знает о терзаниях студента. Эрих Ремарк ходит по своей вилле в Швейцарии и тоскливо думает, что он, конечно, много написал и кое-что сумел сказать о женщинах, мужчинах и войне. Но как хотел бы он писать с такой же лаконичностью, как это делает Эрнест Хемингуэй! И чтоб за этой краткостью такая же таилась глубина, которую всё время ощущаешь до озноба. А между тем Эрнест Хемингуэй и знать не знает, что в Европе где-то есть прозаик, полный мучительной и острой зависти к тому, что делает Хемингуэй. Своя сейчас душевная изжога прихватила Эрнеста Хемингуэя: только что он прочитал некоего российского писателя Андрея Платонова. Сквозь все несовершенства перевода проглядывало нечто удивительное: два-три слова, связанные неожиданно и точно, раскрывали столь укромные узлы устройства мира и людей, что оставалось лишь руками развести, как это смог нащупать человек. А между тем Андрей Платонов знать не знал о восхищённой растерянности Хемингуэя. Он вышел из своей пристройки во дворе Литературного института, где он жил, работая там дворником (замечу в скобках, что легенда эта до сих пор бытует в общей памяти), и встретил мальчика, влюблённого настолько, что приятно было, хоть и больно вместе с тем, его сейчас расспрашивать о мучащей его печали. Больно потому, что, глядя на мальчика, Андрей Платонов думал грустно и завистливо, как обаятелен у молодости тот избыток вещества жизни (его любимое выражение), которое с годами испаряется бесследно и необратимо. Не дождавшись появления студента, мальчик попрощался с незнакомцем и ушёл, с собою унося свою счастливую и тягостную горечь. А Платонов с горечью и завистью смотрел ему вослед.