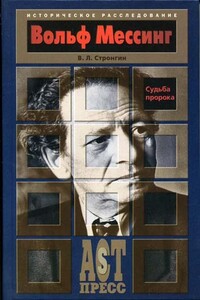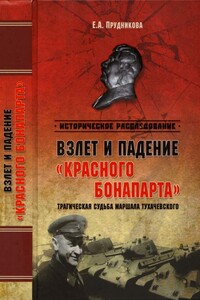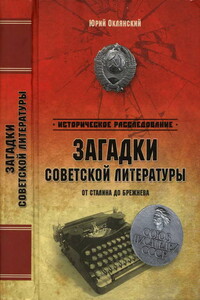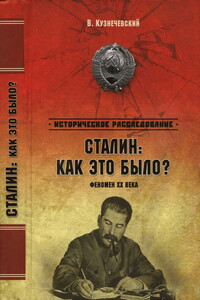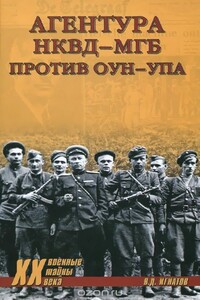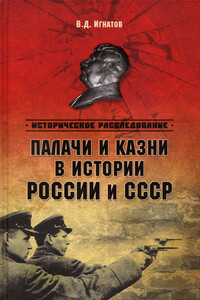Доносчики в истории России и СССР | страница 30
В 1738 году на допросе в Тайной канцелярии князь Иван Долгорукий показал, что, живя в ссылке в Березове, он исповедовался у местного священника Федора Кузнецова и признался ему на исповеди, что в 1730 году, накануне смерти Петра II, он составил и подписал за умирающего императора завещание. Священник же, отпуская грех князю, сказал: «Бог-де тебя простит!» После признаний Долгорукого попа немедленно допросили, действительно ли он знал о фальшивом завещании, и, убедившись в этом, сурово наказали.
Священники становились жертвами доносов, как и все подданные: их также арестовывали, пытали и казнили. Монашество, ряса, клобук, епископский посох, преклонные года и общепризнанная святость не спасали даже высших церковных иерархов от дыбы и тюрьмы. Священников арестовывали, если они не поминали в церкви имя правящего государя или забывали помянуть Синод, не признавали отмены древнего сана «митрополит», выражали сомнения в справедливости отмены патриаршества, осуждали церковную политику Петра Великого или позволяли себе высказать нечто противоречащее указаниям Синода или царя. Окруженные толпой потенциальных доносчиков-прихожан и завистливыми коллегами, готовыми тотчас донести, такие иерархи страшно рисковали. В Синод и Тайную канцелярию потоком шли изветы о «непристойных словах», о нарушениях в отправлении треб и по другим поводам. Сыск не считался с высоким саном священнослужителя, даже если на него был подан заведомо «бездельный» донос.
В 1725 году посадили в тюрьму архимандрита Иону. Синод вступился за него: «Знатные духовные персоны арестуются иногда по подозрениям и доносам людей, не заслуживающих доверия, от чего не только бывает им немалая тягость, но здравию и чести повреждение». Обращение это не помогло — Иона из тюрьмы не вышел.
В 1730 году воронежский епископ Лев Юрлов отказался читать в церкви указ о восшествии на престол императрицы Анны Иоанновны и, наоборот, приказал молиться о «благочестивой нашей царице и великой княгине Евдокии Федоровне» — первой жене Петра I, сосланной им в монастырь. За это его по доносу арестовали, лишили епископского посоха и на десять лет заточили в дальний северный монастырь. Тогда же архиерей Лаврентий подвергся ссылке за то, что «о здравии Ея величества (императрицы Анны) многолетия петь не велел».
Служителей культа было запрещено пытать, но это затруднение легко преодолевалось. По требованию Тайной канцелярии Синод присылал попа для расстрижения преступника. Священник или монах, которому за несколько минут срезали волосы и брили лицо, становился «расстригой», и никаких проблем с пытками не возникало. «О нем объявить в Синоде… и когда с него то (Сан) сымут, указал Е. в. накрепко пытать», — так распорядился Петр I об архимандрите Гедеоне. Приговоры сыскных органов о лишении сана и наказании церковников подлежали обязательному исполнению Синодом. Можно было считать милостью, если государь позволял наказывать преступника, не расстригая его, или отдавал его в руки церковного суда.