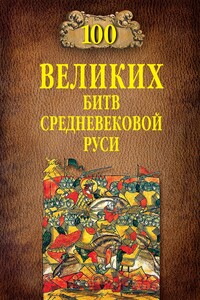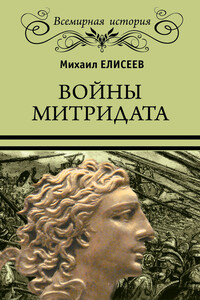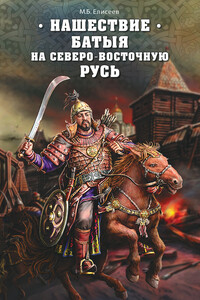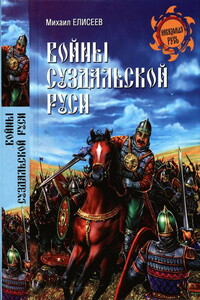10 мифов Древней Руси. Анти-Бушков, анти-Задорнов, анти-Прозоров | страница 73
Даже этого было бы вполне достаточно, но уж раз начали, пойдём дальше, не останавливаясь. Пытаясь блеснуть накопленными знаниями, писатель уверенно заявляет, что «слова «варанг» в Византии тогда еще не знали».
И в итоге писатель снова садится в лужу.
Поскольку иноземную гвардию базилевса – этериею также называли «варанга»!
А всё потому, что вплоть до завоевания Англии норманнами она формировалась из скандинавов, варягов и русов, и лишь только потом на смену им пришли саксы. Вот всех этих грозных бойцов и называли варангами, независимо от того, какого были они роду-племени.
Хотя певец Языческой Руси тут же может пропеть о том, что наёмничество несовместимо с язычеством или что славяне в наёмники не ходили, но доказательств, как обычно, не предоставит.
Однако мы несколько ушли от темы, пора возвращаться к тем, кто по версии Прозорова виноват в смерти «ясного солнца полководческого и государственного гения» – варягам-христианам.
«Это не простые наемники, и в Киеве их ждали те, кто достаточно влиятелен, чтоб заставить остальных поверить их рассказу и в то же время не настолько, чтобы видеть в варягах-христианах пешку, сделавшего свое дело мавра. Кто?» Кто-кто, конь в пальто! Конечно, обвинительный перст писателя сразу же тычет в княгиню Ольгу, но затем дотошный следователь неожиданно меняет гнев на милость. «Все сходится, увы… Так что же, убийца Игоря – Ольга? Убийца собственного мужа? Все против нее, но… не будем спешить».
Заявив, что в этот раз спешить не будет, Лев Рудольфович откровенно удивил.
Обычно старая русская пословица «поспешишь – людей насмешишь» его не останавливала.
По всему выходит, что сейчас он подводит нас к какому-то сенсационному открытию. Надо только затаить дыхание и ждать.
И вот он, наконец, долгожданный финал!
«Было, вероятно, так: верхушка христианской общины и дружина христиан-варягов решились на переворот. Дожидаться совершеннолетия Святослава им было никак не с руки, могли подтолкнуть и неведомые нам обстоятельства. Великий князь мог обнаружить христианство жены и поссориться с ней; могло стрястись еще что-нибудь, ясно одно – у киевских христиан не было времени. Князь, все это время снисходительный, стал, очевидно, опасен. Столь же очевидно, что Ольге не сказали всего. Пообещали «поговорить» с Игорем, быть может, пообещали заставить принять христианство… а к христианам-эмигрантам в Древлянской земле, – условно говоря, к Житомиру, – уже торопились гонцы. Игоря выманили подальше от Киева. Могли сообщить об очередном мятеже древлян. Могли и сам мятеж устроить – с помощью того же Житомира или его потомков. Князь отправился наводить порядок, не подозревая, что идет в западню».