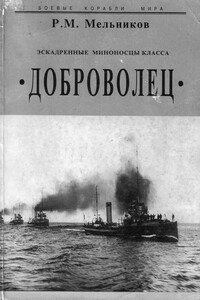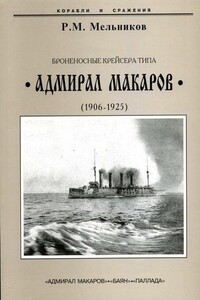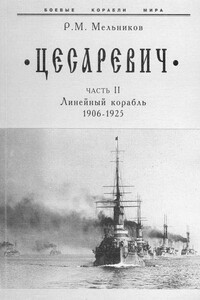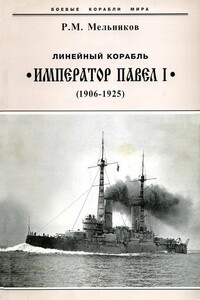Минные крейсера России, 1886–1917 гг. | страница 32
Из-за неудобства сообщения угольных ям с кочегарами и полной изолированности от них носовой ямы, уголь приходилось подавать через люки верхней палубы. В бою это мешало бы артиллерийской и торпедной стрельбе, а на волнении грозило затоплением отсеков вкатывающимися на палубу валами. Из-за тесности помещения ремонт котлов на корабле был практически невозможен, требовалось весь котел снимать с корабля и даже для замены трубок в порту, требовалось разбирать целые переборки. Чтобы заглушить трубку в море приходилось 30 часов ожидать пока котел остынет. При таких повреждениях в обоих котлах корабль оказывался в опасно- беспомощном положении.
Рулевая машина корабля оказалась ненадежна, а шпилевая из-за явной маломощности была не в состоянии оторвать от грунта якорь и его приходилось выхаживать вручную. Оказалось, что завод рассчитывал ее для работы только при полном движении пара в котлах, хотя именно при съемке с якоря, когда машины еще бездействуют, полное давление считается для котлов опасным. Динамо-машину наоборот приходилось выводить из действия при высоком давлении. Поднятый якорь из-за остроты обводов корпуса часто цеплялся за киль, а затем бил по корпусу, который каждый раз приходилось при подъеме прикрывать пластырем.
На скорости свыше 14 уз вибрация была столь сильна, что случалось, что картушка компаса на мостике совершала "полный круг”. Полная скорость при форсированной тяге требовала бессменной работы всей машинной команды по две вахты машинистов и кочегаров, обоих инженер-механиков и еще четырех человек строевой команды для разгребания и подачи угля. В таком режиме в течение 1 часа в море обеспечивалась скорость 18,5-19 узлов. На более длительный период при работе на две вахты обеспечивалась 17-уз скорость при форсированной тяге и 14,5 — при естественной.
Вдвое меньше оговоренной оказалась емкость патронных погребов, а подкрепления корпуса и тумбы оказались непригодны для установки предусматривавшегося главного вооружения из девяти орудий. Поэтому крейсер можно было вооружить да еще с оговоркой — если это будет не во вред "морским качествам”, лишь 6 47 и 2 37-мм орудиями. На этом вооружении лишь минимально обеспечивающим в рамках водоизмещения "Казарского”, выполнение кораблем его главной задачи — уничтожение неприятельских миноносцев, со значительных расстояний — настаивала артиллерийская инспекция МТК.
По сведениям “Судовых списков” 1898–1904 гг. фактическое вооружение корабля составляли 6 47-мм и 3 37-мм пушек, и по одному носовому и одному поворотному надводным аппаратам. "Казарский”, как и “Капитан Сакен” служили в Черном море незаменимыми крейсерско-посыльными кораблями. Уже в 1890 г. в больших маневрах флота с высадкой десанта в Судаке, они занимали место форзейлей во главе ордера эскадры. Они и в дальнейшем участвовали во всех ежегодных маневрах и учениях, действуя при флоте и во главе его сил.