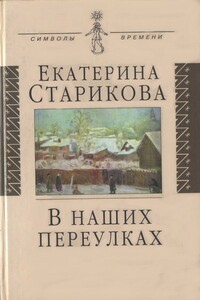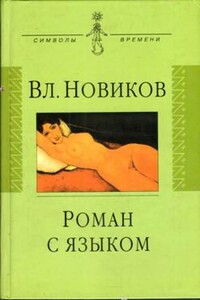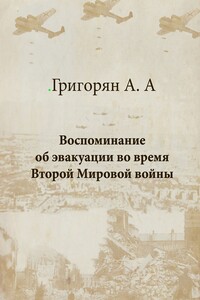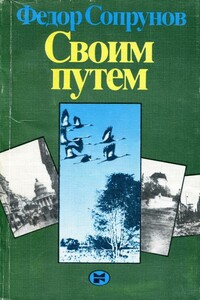Плаванье к Небесной России | страница 55
Я слышала многих прекрасных певцов, опера и концерты в Большом зале Консерватории были содержанием нашей жизни. Не стану говорить о музыкальной сути спектаклей, мы, конечно, воспринимали происходящее без всякой критики. Вспомню один немузыкальный эпизод, произошедший у меня на глазах в Большом театре во время спектакля «Кармен». Кармен пела Максакова, а Хосе — Евлахов. В последнем действии, когда Кармен поет: «Убей или дорогу дай!», оба выхватывали ножи — она из-за подвязки чулка, он откуда-то из-за голенища, — шли друг на друга, и он ее, естественно, убивал. На этом спектакле Максакова выхватила нож, а ее партнер, схватившись за ногу, ножа не обнаружил, то ли тот упал, то ли костюмеры забыли. Хорошо помню растерянное лицо Евлахова и то, как он судорожно шарил рукой в поисках ножа. Но Максакова была не только певицей, но и замечательной актрисой. Поступила она так: через всю сцену Большого театра швырнула нож под ноги Хосе ручкой вперед, да так точно, что он мгновенно его подхватил, а она, раскинув руки, устремилась навстречу ножу и смерти. Весь зал ахнул.
Машин у артистов тогда не было, они ходили в театр пешком, и мы их часто встречали. Хорошо помню очень красивую Гоголеву и то, как видела Прокофьева около Консерватории.
Мы все, постоянные посетительницы Большого театра, были знакомы и знали, какие у кого наряды, потому что это было всегда одно и то же платье. Мы не были богаты и ходили в Большой театр «полузайцами», но в лучшем платье и с хорошей прической. Все это входило в понятие «выхода в театр». Никакой косметикой не пользовались. Никогда! Если барышня шестнадцати-восемнадцати лет красилась, на нее косились. Помню, что одна из посетительниц Большого театра красила губы. Это все знали. Это была «та, которая красит губы!».
Никаких пластинок и патефонов не было. У нас дома стоял рояль, у подружки, где чаще всего собирались, — пианино. Кто-то садился за инструмент, а остальные пели. Мы целыми вечерами пели и играли оперы целиком — «Царскую невесту», «Снегурочку». Пели, конечно, очень плохо, но зато оперы знали наизусть, жили и дышали музыкой. А дома мы с папой играли в четыре руки или папа играл вещи, ставшие навсегда любимыми, а мама пела. А иногда он играл вальсы Штрауса, а я часами танцевала одна в комнате.
В семнадцать лет я ушла из издательства и совсем уже перестала слушаться родителей. Я познакомилась с художниками и начала у них учиться. Больше было негде. Руцай, Арон Ржезников. Как я с ними познакомилась, теперь уже не помню. Они меня рисовали — портреты, конечно. Никому бы в голову не пришло предложить мне позировать обнаженной. А мне ставили в углу натюрморт и учили писать. Основу наших отношений составляла живопись. Это был очень узкий круг людей, с головой погруженных в искусство. Больше всего я училась у Арона Ржезникова, он был очень хороший художник и потом погиб на войне.