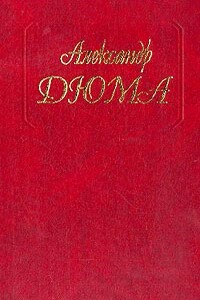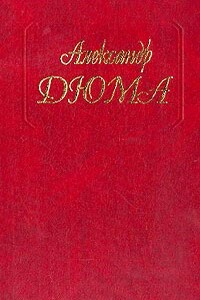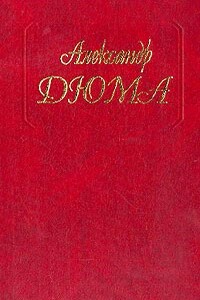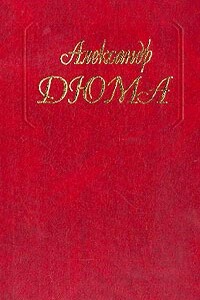Ненависть | страница 51
Охмелевший от бражных ароматов табачной плантации и медовых запахов степного разнотравья, Лука Лукич был настроен на грустный лад. Смежив лиловые веки, он отдался беспокойным думам о диковато-яркой красоте непокорной девятнадцатилетней поденщицы Любки.
Не впервые влекла его к себе нездешней, бросавшей в оторопь красотой эта, прибившаяся к поденщикам с дальнего хутора, молчаливая, безответная в работе девка. В строгом, смуглом, не совсем русском лице ее, как и во всей гибкой фигуре с приподнятыми под ситцевой кофточкой маленькими грудями, было что-то полудикое, властное, что и смущало людей, и влекло к ней с необоримой силой.
Поражала всех в Любке и трогательная ее опрятность. Работая от зари до зари на бобровских плантациях, задыхаясь в угарном табачном чаду, Любка всегда выглядела в красной с белыми крапинками ситцевой
кофточке, в бордовой с оборками юбке праздничной и нарядной. К подружки, товарки по поденным работам, втайне любуясь ею, завидовали ее красоте и опрятности.
Любка чуралась девичьей дружбы. Работая на табачных плантациях, она старалась держаться поближе к ребятам и мужикам, и те охотно принимали ее в свои бригады.
Работница, правда, из Любки была не ахти какая. Но молодые парни и пожилые мужики любили ее за доброту, отзывчивость, а главное, за удивительно чистый, как родниковый ручей, прозрачный, серебряный голос.
По вечерам на полевом таборе поденщиков, когда пахло от соседнего озера камышом и птицей и замирал на плесе страстный гагарий шум, Любка присаживалась с девушками к костру, заводила хоровую протяжную песню. Чуть склонив набок непокрытую темноволосую голову, полуприкрыв позолотевшие от костра глаза, запевала она негромким грудным голосом любимую песню:
Я у матушки выросла в холе, Не видала кручинушки злой, Да счастливой девической доле Позавидовал недруг людской!
И за трепетно-светлым голосом Любки высоко поднималась над степью стайка таких же светлых и трепетных девичьих голосов. И песня, с лету подхваченная трубными мужицкими голосами и юношескими подголосками, разливалась в вечернем степном просторе широкой вольной рекой:
Речи сладкие он мне лукавил И нашептывал ночью и днем. Мне наскучили игры-забавы, Мне наскучил родительский дом.
Озаренная неяркими отблесками медленно угасающего костра, самозабвенно поющая Любка казалась еще более чистой, тревожно похорошевшей. С особенной страстью и силой звучал ее голос в конце этой похожей на невинную девичью исповедь песни: