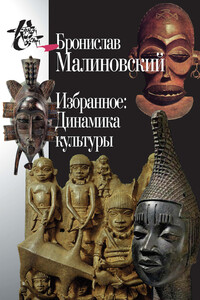Магия, наука и религия | страница 47
Эти соображения объясняют также ортодоксальность примитивных религий и оправдывают их нетерпимость. В примитивной общине не только мораль, но также и религиозные догмы должны быть одинаковы для всех ее членов. Поскольку верования дикарей долгое время рассматривались как суеверия, как выдумки, как детские или болезненные фантазии, либо же — в лучшем случае — как примитивное философствование, постольку трудно было понять, почему дикари так упорно и верно придерживаются их. Но коль скоро мы видим, что каждый канон веры дикаря является для него силой жизненной важности, что его доктрины являются истинным цементом социальной жизни — ибо его мораль, его социальная солидарность с соплеменниками, его душевное равновесие берут свое начало именно здесь — нам легко понять, почему он не может позволить себе никакой толерантности. И теперь совершенно ясно, что когда вы начинаете беспечно оплевывать и развенчивать его «суеверия», вы ломаете его моральную опору, а вероятность того, что вы дадите ему взамен другую, ничтожна.
Таким образом, мы ясно видим необходимость в открытом и коллективном характере религиозных актов и в универсальности моральных принципов, мы также ясно понимаем, почему это намного заметнее выражено в примитивных религиях, чем в религиях цивилизованных народов. Публичность культа и всеобщая заинтересованность в делах религиозных объясняются ясными, конкретными, эмпирическими причинами, и не остается места для Идеальной Реальности, якобы являющей себя в качестве изощренной персонификации, мистифицируя людей и вводя их в заблуждение самим актом откровения. Несомненно также, что тот вклад, который общество вносит в религиозное действо, является условием необходимым, но не достаточным для существования и функционирования религии, и без анализа индивидуального сознания мы ни на шаг не продвинемся в ее понимании.
В начале нашего обзора религиозных явлений в разделе III мы провели разграничение между магией и религией; однако позднее в нашем изложении мы оставили магические обряды в стороне, и теперь нам следует вернуться к этой важной севере жизни примитивного общества
V. Искусство магии и сила веры
Магия — само это слово, кажется, обещает нам целый мир таинственных и неожиданных возможностей! Даже для тех, кто не разделяет тяги к оккультному — этого легковесного стремления кратчайшим путем добраться до «эзотерической истины», этого нездорового интереса, который сегодня так свободно и пошло подогревается «возрождением» полупонятных древних верований и культов, сервируемых под именами «теософии», «спиритизма» или «спиритуализма», а также всяких иных псевдонаук (-логий и — измов) — даже для ясного научного ума тема магии имеет особую привлекательность. Отчасти, может быть, потому, что мы надеемся найти здесь некую квинтэссенцию чаяний и мудрости человека архаической культуры (а их, каковы бы они не были, стоит изучать). Отчасти, потому, что само сочетание этих звуков — «магия», кажется, в любом из нас будит некие скрытые душевные силы, какую-то мерцающую надежду на чудо, какую-то дремлющую веру в чудесные способности человека. Свидетельство тому — власть, которой слова «магия», «заклинание», «чары», «колдовство» обладают в поэзии, где скрытое значение слов и эмоциональная энергия, в них как бы застывшая, сохраняются дольше всего и обнажаются наиболее явно.