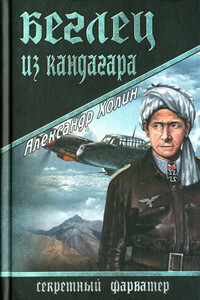Ослиная Шура | страница 65
– А не боишься, что он приползёт в образе змия и переспит с тобой, когда меня дома не будет? – кивнул на портрет Телёнок. – Всё в этом мире когда-нибудь повторяется.
– Роби, ты пошляк! – Шура повисла у него на шее. – Зачем мне он, когда есть ты?
Разве он сможет дать то, что можешь ты? Нет, мальчик мой, своя рубашка ближе к телу. И там ты от меня никуда не сбежишь – просто некуда будет.
– Девочка моя, а ты была замужем?
– Да, – рассеянно кивнула девушка. – Я очень любила мужа и постоянно ставила его в пример своим любовникам.
– Вот как?
– Представь себе. А почему ты спросил?
– Всё просто, – пожал плечами Роберт. – Поселимся, допустим, мы в твоём Эдеме, а через несколько месяцев счастливой райской жизни ты устроишь мне заурядный скандалешник по поводу того, что я не убил вовремя мамонта на ужин, что ты дурой была, когда согласилась гробить на меня свою юную жисть вместе с незаурядным талантом. Потом мы помиримся на некоторое время, потому как бежать некуда из рая. Потом ты решишь соблазнить кого-нибудь из братии, чтобы нас попросту выгнали, как прародителей. Потом…
– А ты, оказывается, действительно подонок, – Шура плюхнулась на топтыжью шкуру, из глаз у неё покатились тихие прозрачные ручейки.
Телёнок, никак не ожидавший такой реакции, кинулся утешать её, стал лепетать какие-то нелепые извинения, что вызвало у Шурочки истерический хохот, закончившийся спазматическим рыданием.
Шура плакала, чуть ли не первый раз в жизни. Нет, не первый, конечно, но то были простые мимолётные женские слёзы, даже в трудные времена рожденья дочки.
А сейчас… сейчас грудь стесняли настоящие горькие глубокие рыдания. Так плачут только о навсегда утерянном счастье, которое, как павлин, махнуло разноцветным хвостом и улетело за тридевять морей в триодиннадцатое царство. Рушились в подсознании хрустальные изумительные замки, выбивая осколками эти прозрачные слёзы.
Она рыдала. Рыдала по не сложившейся жизни, где все знакомые и не знакомые сапиенсы пытались использовать её в своих шкурных интересах, где не было места Любви, а была только борьба за выживание. За место под солнцем. За денежную независимость. За… много было ещё этих «за» в суетливой неразберихе, именуемой жизнью.
Может, потому-то и возник на пути Герман Агеев. Но он тоже, в конце концов, попросил, нет, даже потребовал написать икону дьявола. Эта икона. Этот мерзкий образ – не часть ли её самой, согласившейся участвовать в сатанинской мессе? Не эта ли Шура – агрессивная, расчётливая, иногда беспощадная, циничная уничтожает ту добрую, нежную, где-то даже мудрую девушку, пытается довести разрушение личности до необратимых пределов?