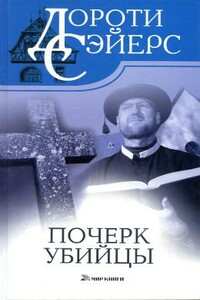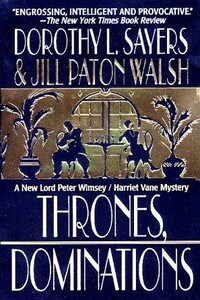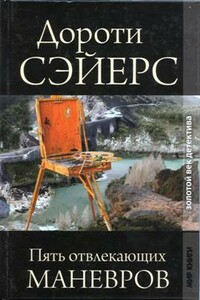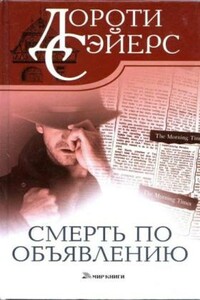Сильный яд | страница 65
— Колоссально! — проревел Уимзи.
— Вы правда так думаете? О, да вы настоящий ценитель! Вы поняли, что это вещь для целого оркестра. На фортепьяно она вообще не звучит. Тут нужна сила, нужны медные духовые, нужны литавры — баммммммм! Вот! Но и так можно уловить саму форму, структуру. Все! Это самый конец! Великолепно! Божественно!
Тут какофония прекратилась. Пианист скривился и утомленно огляделся по сторонам. Когда скрипач положил инструмент и поднялся с места, по ногам стало понятно, что это все-таки скрипачка. Все разом загалдели. Перегнувшись через сидевших рядом гостей, мадам Кропотки дважды обняла обливавшегося потом Станисласа. С плиты подняли сковороду, плюющуюся раскаленным жиром, раздался крик «Ваня!», через мгновение прямо перед Уимзи возникло мертвенно-бледное лицо, и низкий голос рявкнул: «Что будете пить?», в то время как над плечом Уимзи зловеще зависло блюдо с копченой селедкой.
— Спасибо, — сказал Уимзи, — я только что поужинал. Только что поужинал! — вскричал он в отчаянии. — Я сыт, complet![45]
Марджори, способная на более пронзительный тон и решительный отказ, пришла Уимзи на помощь.
— Ваня, сейчас же уберите эту гадость! Меня от нее тошнит. Принесите нам чаю, чаю, чаю!
— Чаю! — повторил мертвенно-бледный господин. — Дайте им чаю! Что вы думаете о симфонической поэме Станисласа? Мощно, ново, скажите? Революционный дух толпы — столкновение и бунт в самом сердце машины. Да уж, буржуа будет над чем подумать!
— Ха! — усмехнулся кто-то у Уимзи над ухом, как только замогильного вида господин отвернулся. — Это все ерунда. Буржуазная музыка. Программная. Миленькая! А вы послушайте «Экстаз на букве Z» Вриловича — чистая вибрация и никаких замшелых правил. Станислас много из себя корчит, но его музыка — сплошное старье, вы только послушайте: все диссонансы так и просятся к разрешению. Так, замаскированная гармония, и больше ничего. Но этих он, конечно, с потрохами купил своей рыжей гривой и костлявостью.
Говорившего эти свойства, очевидно, никак не могли ввести в заблуждение — сам он был лыс и кругл, как бильярдный шар. Уимзи ответил ему в тон:
— И не говорите! Но что прикажете делать с этими никудышными, замшелыми оркестрами? Диатоническая гамма, ха! Всего тринадцать жалких буржуазных полутонов, фу! Чтобы выразить всю палитру сложнейших новых эмоций, нужна октава из тридцати двух нот.
— Но зачем держаться за октаву? — сказал толстяк. — Пока мы не отбросим октаву и сентиментальные ассоциации, с ней связанные, мы никогда не скинем оков традиции.