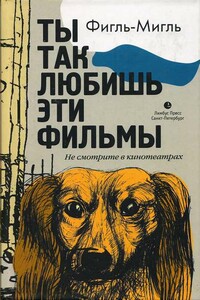Меланхолик это вот какой человек | страница 2
Практичный ум Аристотеля свёл проблему к вопросу темперамента ( в этой трактовке она и дожила до наших дней). Описав в “Никомаховой Этике” меланхоликов как “резких и возбудимых”, он осуждает их “опрометчивую невоздержанность”, из-за которой “одни второпях, другие в неистовстве не дожидаются указаний суждения, потому что воображение легко увлекает их за собою.” А псевдоаристотелевы “Problemata” говорят о меланхоликах как о нервных, впечатлительных, погружённых в свой мир людях, – в число которых попадают Сократ, тот же Платон и “большинство поэтов”.
У средних веков свои заботы. Если в VII веке Исидор Севильский в разных местах своей “Этимологии” – этом прообразе позднейших энциклопедических сводов – пеересказывает, довольно занудно, гиппократов сборник и теорию темперамента, больше склоняясь к версии “хронических болезней”, то позднее вгимание обращают на по-новому понятую “одержимость”. Нельзя быть одержимым Богом – и следовательно, на долю одержимых достаётся дьявол.
Тема “демонической меланхолии” убедительнее всего решена в средневековых бестиариях и пояснениях к ним. Вот что пишет около 1210 года Гийом Нормандский:
(Пер. В. Микушевича)
Итак, меланхолией одержима обезьяна, отвратительнейшее из всех животных. Обезьяна – создание дьявола, пародирующее человека (создание Бога). Она впадает в меланхолию, когда луна – “солнце дьявола” – начинает убывать, и с нею убывает власть тёмных сил над миром. Из этих связей: дьявол-обезьяна, обезьяна-меланхолия, дьявол-луна, меланхолия-луна до нового времени дожила только последняя, когда “томные меланхолики”, ища уединения в аллеях ночных парков, только луну соглашались сделать поверенной своих печалей.
На исходе средневековья ужасы потустороннего мира вытесняются ужасами действительности. К началу XV века разочарование в жизни становится риторической фигурой. “Едва ли не каждый, – пишет Й. Хейзинга, – спешит объявить, что не видел в жизни ничего, кроме бедствий, что ещё более худшего следует ожидать в будущем и что пройденный им жизненный путь он не хотел бы повторить заново. ” Умы охвачены смятением, а любые размышления приводят к ещё большему отчаянию.