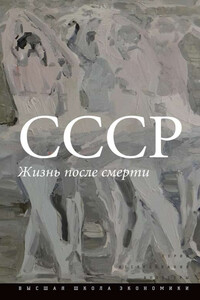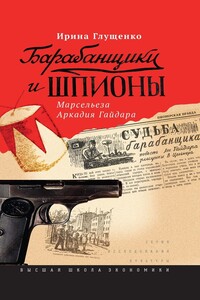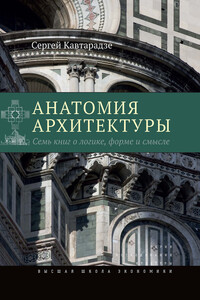Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет | страница 14
Поэтому поэт Готтфрид Бенн в своей (так и не произнесенной) речи памяти Георге написал, что ему «вторжение Георге в немецкую науку представляется одним из самых загадочных феноменов европейской истории»[34]. Георгеанец и сын георгеанцев (Эдит и Юлиуса) философ Михаэль Ландман писал (гораздо позже) о Георге: «Несомненно шаманизм был ему ближе, чем наука; но где и когда существовал другой такой поэт, чьи поклонники, питаясь его духом, создали бы что-то вроде собственного научного стиля? В этом остается что-то сугубо георгеанское, уже неотмыслимое от его сущности»[35].
Вопрос о науке не раз обсуждался во внутригеоргеанских дебатах. Так, в первом томе «Ежегодника за духовное движение» в 1910 году была опубликована программная статья Вольтерса «Директивы», которая отодвигала науку на второй план после поэзии и творчества вообще (как упорядочивающую силу versus созидательной). Этот одобренный Георге манифест вызвал негодование учителя Вольтерса К. Брайзига, который лично (встреча произошла 29.09.1910[36]) и в письмах высказал Штефану Георге свою досаду и в том же 1910 году написал открытое письмо своему ученику – статью «Творческая сила науки»[37]. Из критики науки XIX века никак не должна следовать, по его мнению, критика науки вообще.
Другая, куда более масштабная, полемика вспыхивает через неполных десять лет. В 1919 году выходит брошюра со знаменитым текстом Макса Вебера «Наука как призвание»[38]. Сегодня его читают изолированно, а он должен быть помещен в контекст веберовского спора с друзьями-георгеанцами, и в частности, с программной статьей Ф. Гундольфа в «Ежегоднике за духовное движение» 1911 года. Здесь Гундольф выступает против «безумия, охватившего наши научные учреждения, считающие знание конечной целью»[39], ратует за целостную и воспитывающую (против дробящей и всерелятивизирующей) науку, за «сущность» против «отношений» (как это сформулировано уже в названии статьи), за великое и вечное против прогресса, за величие человека против «американизации и муравьезации Земли», за знание, открыто провозглашающее смыслы и ценности. Наука есть лишь часть воспитательного комплекса (наряду и