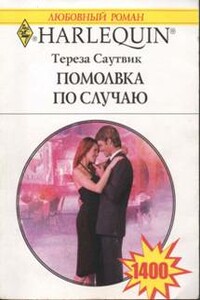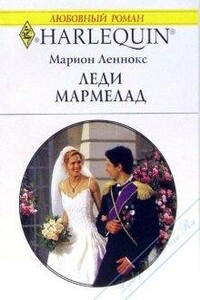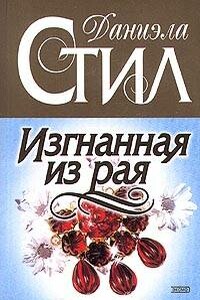Конец лета | страница 10
Вздохнув, она присела на стул, и тут еле слышно раздался звонок. Звонили по внутреннему телефону. Она подумала, что Маргарет интересовалась, принести ли ей кофе в студию. Дина часто завтракала здесь, когда Марк был в отъезде. Когда же он был дома, завтрак с ним напоминал ритуал; это была единственная трапеза, на которой они присутствовали вместе, и случалось это не столь часто.
— Да? — Голос ее звучал очень спокойно, что придавало словам особую мягкость.
— Мама, я должна позвонить в Париж. Я спущусь вниз через пятнадцать минут. И пожалуйста, скажи Маргарет, что я хочу яичницу, хорошо бы она не сожгла ее. А газеты у тебя?
— Нет, Маргарет, должно быть, оставила их для тебя на столе.
— Bon. A tout de suite[1].
Она не сказала мне ни «доброе утро», ни «как ты себя чувствуешь?», «как ты спала?», «я люблю тебя». Вспомнила только о газетах, своей черной юбке, паспорте. Глаза Дины наполнились слезами. Она вытерла их тыльной стороной ладони.
Они вели себя так непреднамеренно. Просто они были такими по природе. Но почему их не волновало, где была ее черная юбка, ее домашние шлепанцы, как шла работа над ее последней картиной. Закрывая за собой дверь в студию, она жалостливо обернулась назад. Ее день начался.
Маргарет услышала, как Дина шелестит газетами в столовой, и с обычной улыбкой приоткрыла дверь из кухни.
— Доброе утро, миссис Дьюрас.
— Доброе утро, Маргарет.
Как всегда, все делалось в доме четко и в тактичной манере. Приказы отдавались с дружелюбной улыбкой; газеты раскладывались по степени важности; кофе подавалось сразу на стол в изящном кофейнике из Лиможа, приобретенном матерью Марка; занавеси были раздвинуты; и каждый был занят своим делом, исполняя привычную роль.
Новый день начался. Просматривая газету и пробуя кофе из голубой чашки в цветочек, Дина отогревала ноги после холода кафельной плитки террасы размеренными движениями по ковру, выбросив из головы все, о чем думала ранее. Поутру она выглядела такой молодой с распущенными темными волосами, широко открытыми глазами, с белоснежной кожей, чистой, как у Пилар, а руки ее были такими же, как и двадцать лет назад — изящными, без единой морщинки. Ей нельзя было дать тридцать семь лет, она выглядела моложе тридцати. Молодость пронизывала все ее движения: и то, как в разговоре она поднимала вверх лицо, и как вспыхивали ее глаза, и как сияла радужная улыбка на губах. Ее возраст возвращался к ней ближе к концу дня, когда движения становились законченно размеренными, приобретая королевскую осанку в дополнение к тщательно уложенным волосам. Только по утрам она была свободна от обременительной печати возраста — она была сама собой.