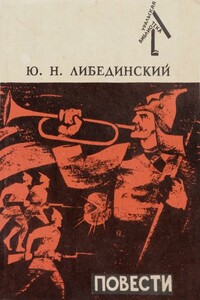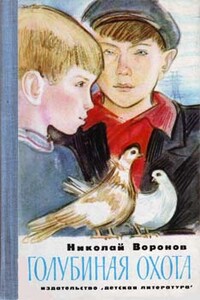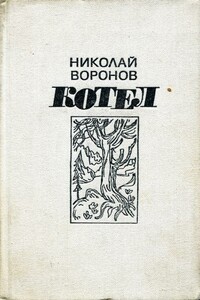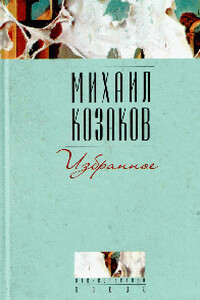Закон души | страница 9
Конечно, гонять и обменивать голубей — дело не самое стоящее в воспитании подростков, по нынешним временам в их возрасте можно найти занятия куда поинтереснее. Но ведь не было — еще не придумала жизнь для них, тогдашних, ни всесоюзной пионерской игры «Зарница», ни походов юных следопытов, ни соревнований дворовых команд на «Золотую шайбу». А жить, расти, постигать сложность человеческих взаимоотношений, находить красоту в окружающем мире им приходилось именно тогда и именно там, где застало их детство. Самое удивительное, что удалось доказать и показать Н. Воронову в этом бесхитростном, «барачном» сюжете, — это то, как они находили красоту и вырастали в достойных людей, получая в тогдашнем рабочем поселке свои первые жизненные уроки и свои первые радости, в том числе и на захватившей их «голубиной охоте». И поди потом проследи и высчитай, откуда так запомнились и пришлись по душе озорному ремесленнику все цвета «побежалости стали» — не от этого ли разноцветья его любимых дутышей и турманов? И когда он понял истинную цену хлеба, получаемого по карточкам, — не тогда ли, когда вывел для себя: «Коль голуби были мои, я старался есть поменьше, чтобы в основном на корм им шла моя пайка»? Невелик урок, но разве бесполезен он как первый урок осознанной справедливости… В нехитрых забавах и заботах «товарищей по голубиной охоте» тоже складывалась, находила себя личность будущего вороновского героя, она уже формировалась по законам родного поселка, по нормам рабочей морали. И потом не раз еще мы заметим и отметим эти особые нормы взаимовыручки, дельного участия, деликатного, молчаливого поступка — и в «Спасителях», и в «Золотой отметине», и в других рассказах этой книги.
Железнодольск дорог Николаю Воронову и таким, каким он запомнился ему в юности, и таким, каков он есть сегодня, сейчас, во всем его внутреннем многоцветье и «в отсутствии внешнего величья». Это не значит, что писатель готов все простить и оправдать в человеке из Железнодольска, — его любовь к своему литературному герою-современнику не слепа, и год от года, книга за книгой она становится не только разнообразнее в словах и красках, но и мудрее, требовательнее. Он не склонен ни себе, ни ему прощать и малого «куржака», хотя, конечно: «Куржак — это ведь часто ненадолго, потому что на него есть ветер больших чувств и солнце прочной человеческой натуры».
Вот за это главное — за ветер больших чувств и солнце прочной человеческой натуры — и дорог автору этой книги знакомый с детства рабочий характер «железнодольца». И если для писателя-фронтовика, за какую бы тему он ни взялся, критерием отбора и художественной правды остается «военная мерка», то для Николая Воронова, когда он кладет на стол чистый лист бумаги, «точка отсчета» своя, прежняя — уральский Железнодольск и его люди.