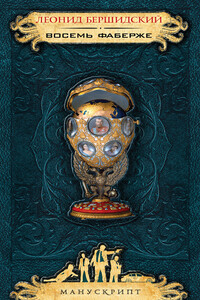Ремесло | страница 60
Черта с два поймешь из этого текста, какая именно информация и где появилась. И кто расследует. Идиотское эсперанто новостников позволяет полностью исключить из текста все существенные моменты, заменив их трескотней и белым шумом. Надо сказать, идеально приспособленными для воспроизведения с интонациями диктора Левитана. Может показаться, что чтец новостей перед включением микрофона произносит про себя: „От Советского информбюро“, чтобы настроиться на правильный лад. Но нет, сам строй кошмарных, нечеловеческих предложений, изрыгаемых агентствами, заставляет читать их голосом дворецкого, объявляющего о прибытии важного гостя на бал.
И я не могу больше слышать эти интонации. Во время новостей переключаюсь с „Эха“ и „Коммерсанта FM“ на какую-нибудь, любую музыку — даже шансон приятнее для уха.
Конечно, новостное эсперанто родилось задолго до меня. В 1972 году Нора Галь писала в книге „Слово живое и мертвое“: „Считается несолидным в газетной статье или очерке написать, к примеру: Мы решили больше не пытаться… Нет, непременно напишут: Мы приняли решение прекратить попытки… Или о работе экипажа космической станции: Проводился забор (!) проб выдыхаемого воздуха. Этот забор не залетел бы в космос, если бы не стеснялись сказать попросту: космонавты брали пробы. Но нет, несолидно!“
Я и сам журналист, про солидность понимаю. Когда-то в газете „Ведомости“ мы старались сохранять язык зарождавшихся тогда в России финансового сообщества и управленческого класса: нам казалось, что, если говорить с новыми профессионалами на их жаргоне, полном англицизмов, им будет легче нам поверить. Да и вообще им будет с нами комфортнее.
Максим Трудолюбов, многие годы возглавляющий в газете раздел „Комментарии“, написал мне недавно: „Леня, наверное, одна из причин — стремление вызвать доверие к своему высказыванию. А этого, в свою очередь, можно добиться, придав ему звучание публичного выступления, например с кафедры, со сцены, с экрана и т. д. У каждого в памяти много таких выступлений — все это замусоренная и часто приблатненная речь наших чиновников, депутатов и, конечно, президента. А еще есть старая история с сакральностью языка для особых нужд. Исторически в России было два языка — разговорный (низкий) древнерусский и богослужебный (книжный, высокий) церковнославянский. Последний использовался и в обычной речи для придания ей торжественности — по-простому „враг“, а если для речи с амвона, то „ворог“. Это „диглоссия“ — сосуществование низкого и высокого языков (об этом писал филолог Борис Успенский). Возможно, пережитки этого сохраняются, только роль высокого языка играет теперь какая-то канцелярская феня“.