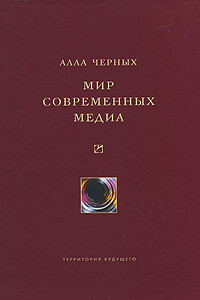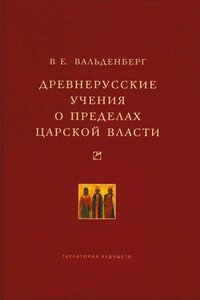Трансформация демократии | страница 46
Для тех, кто поддается эмоциям, наличие лицемеров среди верующих является аргументом для отрицания данной религии, часто для ее осуждения; но для того, чьи рассуждения основаны на опыте, это признак могущества веры, ибо притворяться заставляет истинная преданность ей большинства. В этом смысле очень правдива новелла Боккаччо, в которой рассказывается об израэлите, перешедшем в католическую веру вследствие того, что ее не смогли разрушить дурные поступки римских прелатов. Сегодня верным признаком могущества демократической веры является наличие у нее множества притворных последователей, а об упадке аристократической веры свидетельствует их полное отсутствие. Давно замечено, что ереси возникают, когда религия процветает и полна жизненных сил, и исчезают в период ее упадка и увядания.
Итак, откажемся от легковесной критики упомянутых религий, к которой побуждает тот факт, что для многих они являются средством зарабатывать на жизнь и даже приобретать богатство, почести и власть. Если, например, шумный патриотизм был выгоден плутократам, если война стала для кого-то прибыльным делом и многих обогатила, это не значит, что многие другие не совершили военно-патриотических подвигов из чисто идейных побуждений, пожертвовав своим имуществом и жизнью, и что последних было намного меньше, чем первых. Великие течения мысли должны оцениваться независимо от махинаций и обманов, которые их нередко сопровождают.
В обществе время от времени возникают межклассовые конфликты[63], чередующиеся согласно общим законам ритма: они то разгораются, то угасают. Сейчас преобладает следующая тенденция. Среди рабочего класса, или, если угодно, пролетариев, наблюдается растущее чувство ненависти к имущему классу и к тем, кто превосходят их культурой или еще чем-то; достигая своего предела у большевиков, оно широко распространено во всем мире. Однако у имущих классов и вообще в верхах не заметно проявлений враждебности к низшему классу, во многих случаях они уступили место лести, напоминающей прошлые восхваления абсолютных монархов. С одной стороны, трубят трубы и призывают к штурму, с другой – склоняют головы и капитулируют, а то и переходят на сторону врага, предавая своих за тридцать сребреников. Остается выяснить, как соотносятся эти проявления с чувствами.
Что касается низших классов, возможно, отсутствие каких-либо преград, в прошлом мешавших этим проявлениям, заставляет воспринимать их гораздо острее, чем если бы они точно соответствовали росту указанных настроений; но и с такой оговоркой получается существенный остаток. В отдельных случаях это хорошо заметно, например, если в Тоскане сравнивать чувства испольщика к землевладельцу пятьдесят лет назад и сегодня, или чувства, которые испытывает по отношению к государству мелкий правительственный служащий теперь и чувства его предшественников, в том числе хорошо показанных в литературе