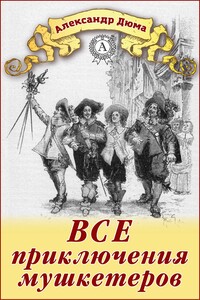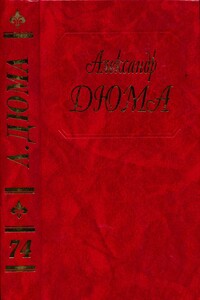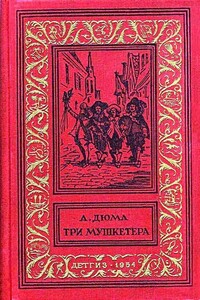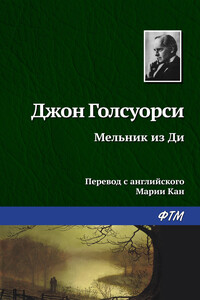Мертвая голова | страница 9
– Видишь? – прошептал Гофман.
– Конечно, вижу.
– Ну, и что скажешь?
– Ни одна женщина на свете не стоит того, чтобы ради нее отказываться от поездки в Париж. Даже ради прекрасной Антонии, дочери Готлиба Мурра, нового дирижера театра Мангейма.
– Так ты, стало быть, ее знаешь?
– Конечно.
– И знаком с ее отцом?
– Он был дирижером во франкфуртском театре.
– Дай мне к нему рекомендательное письмо.
– Непременно.
– Напиши мне его сейчас же, Захария!
Вернер сел за стол и принялся за дело. Едва Захария дописал последние строки и поставил свою подпись, как Теодор, обняв своего друга, выхватил письмо у него из рук и бросился вон из комнаты.
– Но помни, – крикнул Вернер ему вслед, – нет такой женщины, из-за которой можно было бы забыть о Париже!
Гофман, конечно, слышал слова друга, но не придал им совершенно никакого значения. Вернер же положил свои пятьсот талеров в карман и, опасаясь новых искушений демона игры, бросился к почтовому двору. Он бежал туда так же быстро, как Гофман к дому старого дирижера.
Теодор постучался в двери дома маэстро Готлиба Мурра как раз в ту минуту, когда Захария садился в дилижанс до Страсбурга.
Маэстро Готлиб Мурр
Навстречу Гофману вышел сам дирижер, и, хотя юноша никогда прежде не встречал маэстро Готлиба, он сразу же понял, кто перед ним. Этот старичок лет пятидесяти – шестидесяти, прихрамывавший на одну ногу, которая больше походила на штопор, выглядел нелепо и даже смешно, однако мог быть только артистом, и великим, надо сказать, артистом.
Его шаги, точнее говоря прыжки, напоминали бег ласточки. В такой манере, свойственной лишь ему одному, он провожал в дом своих гостей, то обгоняя их, то останавливаясь и выделывая странные пируэты на своей кривой ноге. Следуя за ним, Гофман мысленно рисовал в своем воображении один из тех оригинальных и чудных портретов, которые можно найти среди его произведений.
Лицо старика, преисполненное вдохновения, ума и хитрости, было как будто обтянуто листом пергамента и испещрено красными и черными точками, словно нотная тетрадь для церковного хора. Маэстро всегда носил очки и не расставался с ними даже во время сна. Он имел обыкновение носить их на кончике носа или поднимал на лоб, что не давало никакой возможности укрыться от его проницательного взгляда. И только лишь при игре на скрипке, когда он держал голову прямо и смотрел вдаль, эта вещь становилась ему полезной, впрочем, она все равно скорее оставалась предметом роскоши, нежели была действительно необходима.