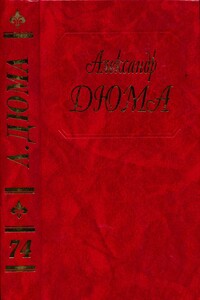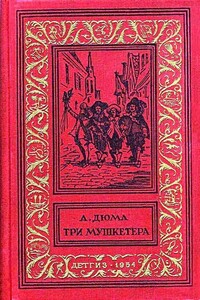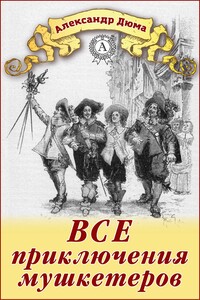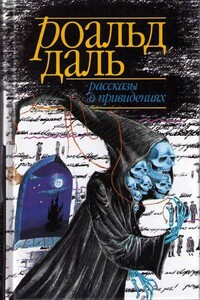Мертвая голова | страница 46
– Как его зовут? – спросил Гофман.
– Неужели вы его не знаете?
– Нет, я приехал только вчера.
– Ну! Это Дантон.
– Дантон! – повторил Гофман, содрогаясь. – И он – любовник Арсены?
– Да, именно.
– И он, конечно, ее любит?
– До безумия. Он ревнив, как зверь.
Но, как ни занимателен был Дантон, Гофман уже перевел взор на Арсену, в безмолвном танце которой было нечто фантастическое.
– Позвольте еще один вопрос, сударь.
– Что вам угодно?
– Скажите, что изображено на пряжке, закрепляющей бархотку у нее на шее?
– Гильотина.
– Гильотина?
– Да, их делают прелестно, и все наши щеголихи носят по крайней мере одну. Та, которая на Арсене, – подарок Дантона.
– Гильотина, гильотина на шее танцовщицы, – повторял Гофман, чувствовавший, как голова его сжимается, – гильотина… к чему же это?
И наш немец, которого в ту минуту можно было принять за сумасшедшего, вытянул руки вперед, как будто для того, чтобы схватить какой-то предмет. По странным законам оптики расстояние, отделявшее его от Арсены, время от времени исчезало, и тогда юноше казалось, что он чувствует жаркое дыхание, вырывавшееся из ее груди, наполовину обнаженной и вздымавшейся, словно в сладострастном порыве. Гофман достиг той степени восторженности, когда дышат огнем и начинают опасаться, что тело не выдержит этой пламенной борьбы.
– Довольно! Довольно! – воскликнул он.
Нo танцы продолжались, и в этом видении начинали соединяться оба самых сильных впечатления дня. Фантазия Гофмана то преображала сцену в площадь Революции, и тогда юноша видел госпожу Дюбарри, бледную и обезглавленную, танцующую на месте Арсены, то Арсену, которая танцевала у гильотины и даже в руках палача.
В восторженном уме молодого человека смешались цветы и кровь, танцы и предсмертные муки, жизнь и смерть. Но надо всем этим господствовало только одно – магнетическое влечение к этой женщине. Всякий раз, когда пара этих стройных ног мелькала перед его глазами, когда прозрачная юбка взлетала немного выше дозволенного, трепет охватывал молодого человека, губы его дрожали, дыхание становилось пламенным, и тайные желания овладевали им.
В этом положении Гофману оставалось одно спасение – портрет Антонии, медальон, что он носил на груди, олицетворение чистой любви, противопоставленное любви чувственной, сила непорочного воспоминания перед плотскими желаниями.
Он схватил портрет и поднес его к губам. Но едва он сделал это движение, как услышал резкий хохот своего соседа, насмешливо смотревшего на него. Тогда Гофман вернул медальон на прежнее место и встал, словно вытолкнутый пружиной.