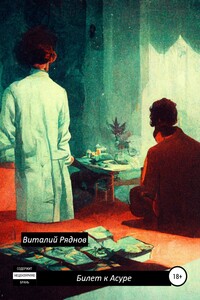Пейзаж с эвкалиптами | страница 37
И странно — нет почему-то у нее ощущения отдыха в этом синем и золотом дне, у подножия мыса Каррам бил, кудрявого от тропической зелени. Нет того полного отключения души, что приходит к нам у своего моря, на жесткой ялтинской гальке или на обском берегу, замусоренном выброшенными водой корягами. То ли от того, что вечно неспокоен мятущийся океан, и это передается ей непроизвольно, то ли потому, что до предела сжаты и расписаны эти ее пять дней у моря: с обеда приедет Андрей и повезет ее в горы, к водопадам или на тот призрачный мыс на границе Квинсленда и Нью Саут Уэльса… Или это просто — чужой берег?..
Андрея они нашли в первый же вечер по приезде, когда вещи были разложены, океан порядком потрепал се и заставил хлебнуть соленой воды для начала, а солнце ушло за горы и на пляже стало нечего делать.
Лиза собралась мигом, и ей тоже пришлось надевать парадное платье балахоном, чтобы не уронить Сибирь перед заграницей! Антоша остался дома смотреть «тиви», пока это его главная и единственная страсть. И Гаррик вывел машину из тихой заводи Каррамбина на артерию — к огням, движению и сверканию.
Андрей жил ближе к горам, в стороне от магистрали, и они долго блуждали в переулках, высвечивая из темноты куски травы у обочины и кусты, перистые, как пальмы. И спросить не у кого — все сидят взаперти, только номера, словно светлячки, на фасадах. А тротуаров здесь вообще нет — одна узкая проезжая часть и подъезды к гаражам. Зачем? Никто не ходит пешком, а по чужим лужайкам тем более не положено!
Захрустел под колесами белый гравий, звоночек брякнул в глубине дома. Дверь отворил крупный мужчина, седой и сутуловатый. Она стояла перед пим в освещенном холле с лесенкой из полированных досточек, убегающей наверх, и шкурками кенгуру, вместо половиков, смотрела на него и не узнавала. И он тоже смотрел и не узнавал, может быть, от внезапности появления?
— Неужели Лёлька Савчук! — крикнул он и заулыбался. И тут словно серая фотопленка стала проявляться на глазах у нее, и лицо проступало из глубины, знакомое, но забытое, и не было больше седины и всего налета лет…
…Она шла из института, а он стоял, облокотившись на забор своего палисадника, и смотрел, как она идет, и улыбался мальчишескими круглыми глазами. И он был, видимо, после смены в своем паровозном депо, потому что nç снял еще синей казенной куртки в пятнах, а она шла, сверкая двумя рядами медных пуговиц на тужурке и двумя золотыми значками на бархате воротника — скрещенные ключ и молот, в белых тапочках на резинке, в белой английской блузке. И юбка в складку колебалась вокруг колен ее, как кринолин. И вся полна была гордости от сознания своего студенчества и значительности от принадлежности к передовой молодежи мира. И своей молодостью. И той необъяснимой музыкой стихов, записанных и незаписанных, что бродили в ней постоянно, мешая сдавать зачеты по сопромату. И может быть, от стихов этих, присущих ей, как дыхание, она всегда летела, словно на вершок над землей, в своих белых спортивных тапочках, не успевая вглядеться в окружающих.