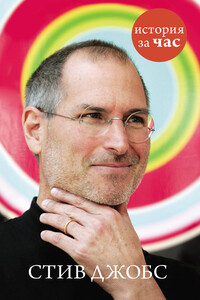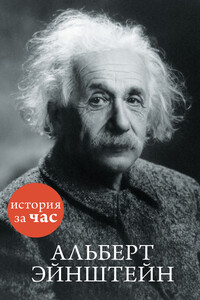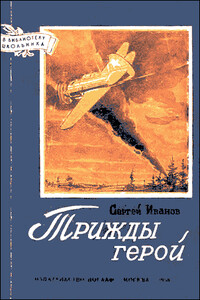Отпечаток перстня | страница 49
И это всего лишь клетки! Что же говорить о растениях, о целых организмах! Могут ли они, подобно высшим животным, понимать наш язык – если не слова, то хотя бы интонации? Кто может поручиться за то, что в мире растений не обнаружится такая же иерархия программ, которую мы видели и у животных: на одном конце слепой «физико-химический» автоматизм, а на другом своеобразное поведение, структуре которого присущи и элементарное восприятие и первичные эмоции, и условные рефлексы, и пусть не такая уж богатая, но самая настоящая память. Во всяком случае, отказывать в ней растениям сегодня уже не решается ни один серьезный ученый.
Что же касается памяти намагниченного железа, фотохромных элементов, нитинола и прочих неодушевленных предметов, то у нас пока нет оснований отличать ее от памяти усика и придавать ей буквальное значение. Несамостоятельность воспроизведения запечатленных в этих предметах свойств показывает, что термин «память», приложенный к неодушевленной материи, все та же наша обычная дань антропоморфизму, который со времен Фалеса был и остается одним из объяснительных принципов познаваемой нами природы. Внезапное воспоминание о прежней форме, которое проявляется у нитинола, мало чем отличается от воспоминания белого листа бумаги, на котором после глажки проступают симпатические чернила.
Несмотря на то, что объем памяти вычислительных машин достиг внушительных размеров и в ближайшем будущем обещает вырасти в сотни, а может быть, и в тысячи раз, эта память тоже не имеет ничего общего с памятью живых существ. Некоторую аналогию с машинами мы, правда, находили у обладателей закрытых инстинктов, действовавших по жестким программам. Нам могут возразить, что существуют самообучающиеся программы. Но метод самообучения и его границы предусмотрены составителем программы и всегда подчинены определенной задаче, придуманной тем же составителем. Ни научиться чему бы то ни было, ни что-нибудь запомнить сверх того, что заложено в программе машина не имеет права. Если это и случается, то не потому, что у машины появляются особые намерения, а потому, что в ней нарушается режим работы. Когда машины научатся сами себе составлять программы, выбирать себе задачи по вкусу и решать их в зависимости от настроения, мы пересмотрим свою точку зрения. Покуда же этого не произойдет, их память останется не чем иным, как складом закодированных сведений, который наполняет человек для удовлетворения своих «вычислительных потребностей» – своих, а не машины. В отличие от гусеницы и даже от асцидии, у машины никаких потребностей нет.