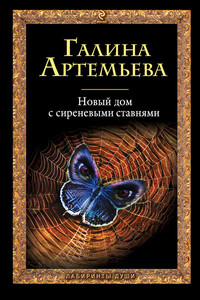Код Мандельштама | страница 74
(«На полицейской бумаге верже…», 1930)
Эти стихи, как и «Нашедший подкову», — об удушении поэтического вдохновения.
«Вдохновение — сверхъестественное ли оно событие, изменяющее обычный ход природы? — Нимало. Оно необходимое последствие прямого действия неизвестного начала на силы нравственной природы, посредством которого эти силы получают несравненно большее развитие, нежели каким пользуются в обыкновенном положении»[71]. В данном случае на силы природы действует вполне известное начало — страшного чиновничьего аппарата из новой эпохи.
Ни Федра, ни особый способ жизни, дарящий творческий полет, ни смерть, ни даже «бархат всемирной пустоты», ночь теперь — канцелярская принадлежность.
В этой ли ночи молиться за «блаженное бессмысленное слово». В двадцатые годы поэт пишет: «Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи». Свечи-души погасли, и ночь окончательно перестала быть союзницей.
Ночь давно утратила органически присущую ей тишину:
(«1 января 1924 года»)
В тридцатые годы тишина, покой навсегда будут отняты у ночи, поставлены вне закона:
(«После полуночи сердце ворует…», март 1931)
Итак, ночь, лишенная сна, вдохновения, теперь лишается последнего — покоя. Покой может быть лишь уворован, любовь — уворована. «Тишь» признана непозволительной роскошью.
«Целые миры рушатся, и возникают еще неведомые миры. Жизнь людей и народов выброшена во вне, и эта выброшенность во вне определяется прежде всего страшной трудностью и стесненностью жизни. И опять с необыкновенной остротой стоит передо мной вопрос, подлинно ли реален, первичен ли этот падший мир, в котором вечно торжествует зло и посылаются людям непомерные страдания? <… > Наш мир, которым для слишком многих исчерпывается реальность, мне представляется производным. Он далек от Бога. Бог в центре. Все далекое от Бога провинциально. Жизнь делается плоской и маленькой, если нет Бога и высшего мира. В таком мире, лишенном измерения глубины, нет и настоящей трагедии, и это, вероятно, и пленяет многих. Величавость и торжественность греческой трагедии определялась тем, что люди поставлены перед роком, то есть тайной, и что с людьми действуют и боги…»