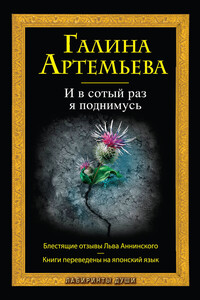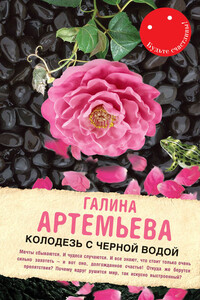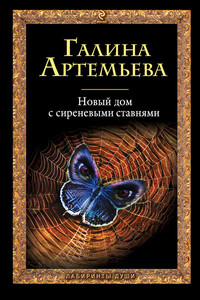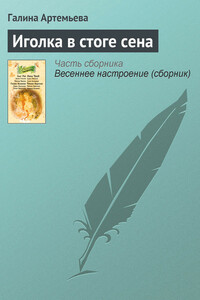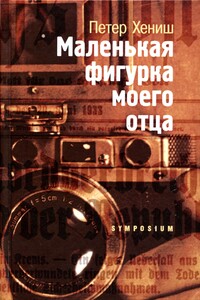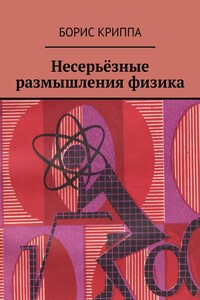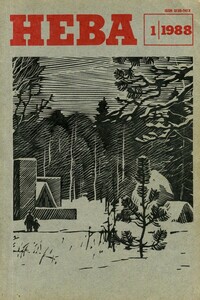Код Мандельштама | страница 60
Свобода поэтического вдохновения и заставляет поэта Мандельштама, вновь и вновь пытаться скреплять позвонки своего «жестокого и слабого века». Могучие истоки русской поэзии вновь дают силы для движения, прорыва ввысь.
Державин, Пушкин, Лермонтов — примеры, вдохновители, собратья побуждают Мандельштама к освобождению.
«Грифельная ода» воспринимается как продолжение «пиндарического отрывка».
Не по форме — по сути.
Это размышление о времени, о творчестве, о своем месте в русской поэзии.
Последние стихи Державина, начало оды, записанное поэтом за два дня до смерти на аспидной доске, — отправная точка мандельштамовского творческого порыва:
Какое противоречие с убежденностью Пиндара в нетленности своих творений! Хотя и тут сквозит вера в то, что «звуки лиры» переживут певца. Российский творец оды, «гнавшийся за Пиндаром», Державин, умел льстить, но не умел приспосабливаться. Пушкин называл его льстецом: «С Державиным умолкнул голос лести, а как он льстил»[63]. Державин, восхваляя в своих одах монархов, в отличие от Пиндара, значительно принижал роль поэта как гаранта будущей славы того, кому посвящена его хвалебная песнь.
По Державину, поэт лишь эхо славы государя:
(«Приношение Монархине»)
И тем не менее своей главной заслугой Державин провозгласил стремление к правде. Об этом свидетельствует и начертанная самому себе эпитафия:
Это же сказано и в последних строках его «Памятника»:
И если виртуозному умению Пиндара с его любящей деньги музой научиться не удастся никогда — не тот у Мандельштама темперамент, не та судьба, не та изначальная заданность, не то пространство и время, то Державин как образец для подражания гораздо более приемлем.
В ответ на насторожившие Екатерину стихи «Властителям и судиям» Державин, не оправдываясь, не пытаясь объяснить императрице, что это переложение 81 псалма Давида и тем самым спрятаться за псалмопевца, представляет ей «Анекдот»: