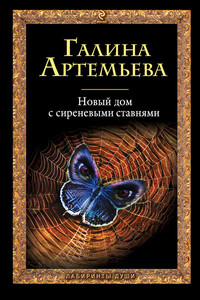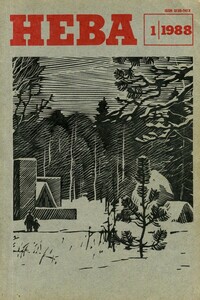Код Мандельштама | страница 58
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.
Мучительное, безвыходное состояние непрекращающегося кошмара, переданное в «Нашедшем подкову», перекликается с описанием мук Тантала из первой олимпийской песни Пиндара:
Мандельштам, как Тантал, переживает свою величайшую казнь: ночь — время творчества, но творчество невозможно.
Воздух, которым нельзя было не дышать, оказался непригодным для существования.
И от ведома «новых богов» укрыться некуда.
«Литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще ее не касается, но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать ее, — и вовсе не только в административном, а еще в каком-то более глубоком смысле». Так с победной желчностью резюмировал результаты удушения свободы Л. Троцкий[58].
Мандельштам, не сумевший приспособиться к Октябрю, оказался на периферии литературной жизни. И речь не только о том, что гениальный поэт, не имеющий признания, испытывает целый комплекс мучающих его болезненных ощущений.
К непризнанию, игнорированию примешивались убийственные оценки: «второсортный, бывший, исписавшийся, устаревший».
Вот одно яркое свидетельство обступившей поэта со всех сторон агрессивной пошлости: «вскоре рядом с Мандельштамами в том же коридоре освободилась большая комната в три или два окна. Они туда переехали, а их бывшую комнату передали поэту Рудерману. <…> Жена (Рудермана) возмущалась, почему им троим дали маленькую, а Мандельштамам большую комнату. „Рудерман, — кричала она в коридоре, — молодой поэт, активно работающий, а Мандельштам, — старик, уже не пишущий, а если и пишет иногда, все равно он — бывший поэт, устаревший“. Осипу Эмильевичу было тогда 40 лет»[59]. Подобные — изо дня в день, из года в год — унижения привели даже к тому, что самый близкий Мандельштаму человек, жена, сразу после гибели поэта отвергала определение «великий», относящийся к ее мужу: «…Посылка пришла обратно. Осип Эмильевич умер.