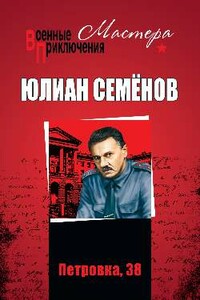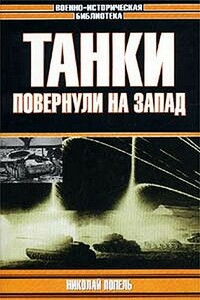Семнадцать мгновений весны (сборник) | страница 92
— Что новенького?
— Ничего.
— Скоро дальше?
— Какое «дальше» ты имеешь в виду?
— Мне нравится эта девица! Я имею в виду, когда снова начнем давать деру?
— Это зависит не только от нас, но в какой-то мере и от красных.
Трауб усмехнулся.
— Смешно, — сказал он. — Куда сегодня?
— Куда-нибудь, где много людей и хорошая музыка.
— Это крематорий.
— Писатель, ты злой, отвратительный человек.
— Едем в казино — больше некуда.
— У тебя новенького нет ничего?
— Ты имеешь в виду баб?
— Пока еще я не подозреваю тебя в гомосексуализме.
— Нет, ничего особо интересного нет.
— Ты добр во всем, но женщин скрываешь.
Трауб кончил одеваться, сделал радио чуть громче и остановился возле коричневого громоздкого аппарата.
— Тебе не бывает страшно, когда слушаешь этот ящик, Гуго?
— Почему? Меня изумляет это чудо.
— Тебя изумляет, как люди смогли втиснуть мир в шесть хрупких стеклянных лампочек? Так ведь?
— Так.
— Это — от дикарства. Ты дикарь. А дикари лишены страха, потому что Бог обделил их воображением. Меня страшит радио, я боюсь его, Гуго. Послушай. — Трауб повернул ручку, красная стрелка поползла по шкале, рассекая названия городов: Лондон, Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Каир. — Слышишь? Мир создан из двух миллиардов мнений. Сколько людей — столько мнений, судеб, правд. У нас один, десять, сто человек навязывают правду национал-социализма миллионам соплеменников. А кто может зафиксировать то, о чем говорят эти миллионы в постели перед сном, уверенные, что диктофоны гестапо их не запишут? Что они думают на самом деле — о себе, о нас, о доктрине? О чем мечтают? Чего боятся? Кому это известно в рейхе? Никому. В этом зарок нашего крушения. Наша правда идет не от миллионов к единицам, а, наоборот, от единиц — к миллионам. Знаешь, мир обречен. Видимо, это вопрос нескольких десятилетий. Разные правды, которые во времена феодализма могли быть сведены в одну, теперь обречены на взаимоуничтожение, ибо они подпираются разумом ученых и мощью индустрии.
— В этой связи все-таки стоит продумать вопрос — с кем мы будем сегодня спать.
— Мы махонькие мыши, нам надо стрелять не туда, куда стреляют солдаты на фронте.
— Я этого не слышал, я выходил в ванную комнату, — зевнув, сказал майор.
— Мы все предали самих себя: нам очевиден наступающий крах, а мы молчим и бездействуем, прячем голову под крыло, боимся, что гестапо посадит в концлагеря наших ближних. Что ж, видимо, будет лучше, если их перестреляют пьяные казаки. Нас отучили думать — мы лишены фантазии, поэтому страшимся близкого гестапо, забывая про далекую чека.