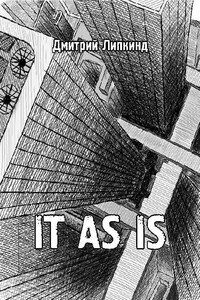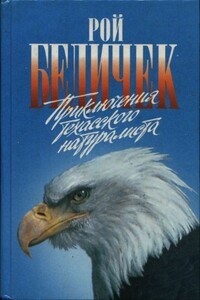Все могу | страница 52
На присланном из Москвы мотоцикле ездил Женя с инспекциями от золотообогатительных комбинатов чаще из Сусумана в Ягодное, говорил со старателями и сам не замечал, как грубел от их баек про мужскую справедливость и силу. Язык его, до того академический, научился искусно перетасовывать научные термины с блатными словечками.
Стараниями немногих женщин-коллег знал он, что рододендроны, засыпающие весной все сопки цветным ковром, особенно хороши в любовной науке, что запах их вересковый, запертый в комнате, как-то немыслимо влияет на ощущения двоих, и искренне не понимал, как на холодной земле, состоящей из камней и золота, могли взрасти такие цветы.
Редко бывал он в самом Магадане. Его, ставшего уже Евгением Альбертовичем, поражала свобода, полное отсутствие официальных властей. Город жил собственным законом, сидя на бочках с засоленной икрой, шамкая больными от холода зубами и каждый день все больше и больше погружаясь в мир чистогана. Останавливался он в общежитии музыкального училища, где жил его друг – тромбонист. Жене нравилась разудало-пьяная атмосфера этого дома. Он заходил к пианисткам, всегда веселым девочкам, и погружался в полумрак их комнаты. Во имя вечного спасения от не менее вечного холода окна их были намертво занавешены одеялами. Беззаботно и взросло проводил там Евгений Альбертович свое время. Только на обратном пути становилось ему по-настоящему легко, свободно, и именно тогда он вспоминал с неизменной нежностью Танюшу, их семейно-половые мытарства, улыбался про себя во все лицо и думал, что надо бы развестись. Таня же положением соломенной вдовы не тяготилась. Все свободное время проводила она с учебником Бадаляна по детской неврологии да с аспирантом последнего года.
Истринский роман, было угаснув к августу, возродился уже в октябре. И стала Таня постепенно прикипать к Стасу. Узнав к тому же, что Стас не просто лыжник, что за огромными его плечами остался авиационный институт, Таня воспрянула духом. Стас же совершал по своим меркам головокружительную карьеру. Талант лидера не давал места бездействию. Он что-то придумывал, разрабатывал, внедрял. Он любил детей, их родителей, друзей, родственников. Он был эталоном для подражания. Вел программу в «Пионерской зорьке», участвовал во взрослых соревнованиях, руководил детскими состязаниями, учился и редко-редко, в перерывах между сборами, сессиями, семейными и общественными праздниками, заходил к Тане. Он представлял собой то искусство, которое обязано принадлежать народу, и не жалел себя ни для кого, оставляя Тане лишь маленькую часть от себя. Но именно Тане в многодневных и бесплодных размышлениях являлось его чудовищное одиночество, которое, как казалось Тане, заставляло Стаса окружать себя многочисленными знакомыми и друзьями. Несмотря на то что он был одинок, он никогда один не был. Как-то Таня решилась на подвиг, пытаясь заменить всю свиту собой единственной, поговорить с ним, рассудить, но наткнулась на такое хладнокровное молчание и все исчерпывающий взгляд, что продолжать не стала. Пуская всех и каждого в свою жизнь, Стас не желал открывать никому свою душу. Танина излишняя проницательность лишь раздражала его. Но после сборов, где тугобедренные лыжницы соревновались не только в лыжных гонках, Стас все равно возвращался к Тане, и ей казалось, что только к ней одной.