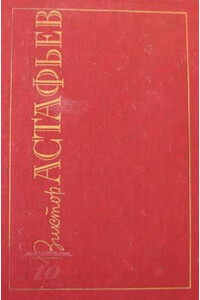Чистая вода | страница 22
Андрей закурил и откинулся на спинку кресла.
— Итак, тебя распределили в водопроводный трест, — сказал он.
— В производственное управление водопроводного хозяйства.
— Пусть так. И что же ты намерен там делать?
— Работать мастером, — сказал я. — Лучше бы инженером. Но для того, чтобы стать настоящим инженером, я должен поработать мастером на первых порах.
— Все это так, — сказал он. — Только мне кажется, что ты не совсем представляешь себе, что такое производство.
— Там матом ругаются, — сказал я.
Он помолчал. Потом сказал:
— Бывает. Но это не главное. Главное — не тот ты парень, чтобы там работать. Ты читал Светония, Мюссе, Акутагаву…
— Послушай, ты не думаешь, что мы доживем до того времени, когда каждый мастер Горводопровода будет читать и Светония, и Мюссе, и Акутагаву? — сказал я. — Ты сам начинал токарем на заводе. И первый ваш фильм был о мастере с буровой, разве нет? А послушать тебя — получается, что там работают грубые люди и мне среди них не место.
— Нет, — сказал он. Потом сказал: — А, черт. Просто я хочу, чтобы ты понял, что жизнь — слишком дорогой, слишком неповторимый подарок, чтобы… Словом, ты уверен, что не пожалеешь об этом?
— Не знаю, — сказал я. — Думаю — да.
Тут нам, как обычно, помешали разговаривать. Пришел сосед — невзрачного вида парень, жена которого уже четыре дня, как сбежала среди ночи. И он, значит, пришел к Андрею рассказать последние новости и посоветоваться, как быть. Андрей разом обратился в слух. Парень поначалу стеснялся, потом — куда только все делось — пошли подробности, одна круче другой. Но Андрей, знай себе, слушал. Была же в нем эта черта: часами, с неизменным вниманием он мог выслушивать меня, мать, соседей, режиссеров, полоумных старух, привокзальную шпану, работяг и приезжих колхозников. В этом они с Борькой стоили друг друга. Андрей — тот все запоминал. Борька из боязни забыть останавливал человека на полуслове, врал, что вспомнил чей-то телефон, и, отойдя в сторонку, доставал записную книжку в палец толщиной. Он боялся записывать потому, что человек мог перестать рассказывать, но забыть услышанное он боялся еще больше; дважды его принимали за оперативника, попробовали отлупить, но тут нашла коса на камень: Борька боксировал, как бог.
В тот вечер он вернулся с разбитой рукой и битых полчаса возмущался на кухне. Тогда была зима без снега; снег так и не выпал по-настоящему. Из комнаты шел едва различимый тонкий запах гниющей антоновки, который, по словам Борьки, любили поэт Бодлер и писатель Бунин. И мы держали гниющие яблоки на шкафу, на сложенной вдвое газете — из любви к Бодлеру и к Бунину. В кухне насвистывал веселую песню чайник, еле слышно дребезжало оконное стекло, да прерывисто тарахтела Борькина пишущая машинка. Я читал до поздней ночи, и, если книга мне нравилась, я поднимался с постели и шел на кухню показать Борьке удачное, на мой взгляд, место. Борька слушал, ухмылялся и говорил: